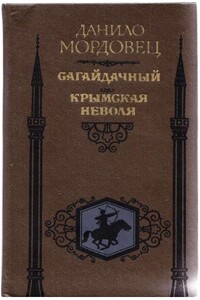— Прими казнь и верь, что Бог простит тебя в грехах твоих, — помолись только ему с раскаянием и верою...
— Помилуй! Помилуй!
— Рука палача не коснется тебя... Прощай, Марьюшка! — Царь поцеловал ее.
Она упала на колени и стала молиться. «Рука палача не коснется... Матушка! Матушка! Не ты ли замолила за меня...»
Царь что-то шепнул палачу...
«Помиловал! Помиловал!» — затеплилось у всех в душе...
Царь отвернулся от наклоненной молящейся головки и прекрасной согбенной шеи... Что-то блеснуло в воздухе, это топор... Что-то визгнуло и что-то стукнуло об помост — то была отрубленная голова... Палач не коснулся тела красавицы, коснулось только холодное железо...
Крик ужаса замер в воздухе, заледенел...
Царь нагнулся, поднял за волосы мертвую голову, медленно и пристально вгляделся в ее черты, все еще прекрасные, как бы стараясь запомнить их, и снова поцеловал покойницу. Потом, обратившись к тем, которые стояли ближе к эшафоту, и показывая пальцем на мертвую голову, сказал:
— Вот сии жилы именуются венами, и в них течет кровь венная, а сии — артерии, и в них течет кровь артериальная, которая нарочито от первой разнствует... Здесь — шейные мускулы, сиречь мышицы, тако именуемые того ради, что оные сжимаются и разжимаются, аки малая мышка — мышонок...
И он снова, в третий раз, поцеловал мертвую головку.
Затем, передавая голову доктору Блюментросту, который приблизился к эшафоту, сказал:
— Возьми сию голову и, сочинив подобающий спирт, положи ее в оный для сохранения в нашей куншткаморе вместе с прочими раритетами на вечные времена в назидание нашим подданным и их потомству: да ведают все, яко в нашем царстве порок всегда наказывается, добродетель же торжествует.
И он величественно удалился.
В толпе — хоть бы звук. Слишком уж подавляющим чем-то легло на маску такое хладнокровие царя и его правосудие... Все ждали чего-то другого... У всех что-то оторвалось от сердца, точно что украли у каждого из души, из ее теплого тайника, и стало всем холодно, и как-то пусто кругом... Человеком стало меньше!..
Вдруг из-под эшафота, из-за досок, которыми он был обшит с трех сторон, выскакивает растрепанная, с всклокоченными седыми волосами, оборванная и босая человеческая фигура... С нею вместе выскочила большая белая собака, вся обрызганная кровью...
В толпе раздался крик испуга, крик ужаса...
— Пойдем, Орелка, пойдем, пес смердящий, ты теперь налакался невинной кровушки... Тебя бы надо повесить, да я милостив: блажен, иже и скоты милует...
Толпа узнала своего любимца.
— Фомушка святой! Фомушка!
Но Фомушка и его собака исчезли, словно в воду канули...
Снова над Петербургом глазастая, белобрысая летняя ночь: ни ночь, ни день, ни заря, ни сумерки, что-то неопределенное, как будто незаконченное, тревожащее непривычного человека, расстраивающее нервы, насылающее бессонницу. Так и кажется, что солнце вот-вот выглянет из-за горизонта, но не там, где ему Бог положил выглядывать, а не в указанном месте, на севере, где-нибудь из-за гарнизона петропавловского или из-за Самсония.
Но те, на которых три года тому назад в 1716 году глядела эта ночь своими белыми очами, — и царевич Алексей Петрович, и девушка Афросиньюшка, такая же, как и эта ночь, большеглазая и светлоокая, и Кикин с своими упрямыми, стоячими глазами, они уже не видели этой ночи, они спали крепким, вечным сном, и никакой свет, никакой мрак не могли больше действовать на их навеки успокоившиеся нервы.
Но этот свет — не свет, день — не день, по-видимому, продолжал действовать возбуждающим образом на нервы вон тех молодых офицеров, которые на легком катере плывут по Большой Невке, за Каменным островком. Всех их человек пятнадцать. Они сами гребут и ведут оживленный разговор. Звонкий смех, веселые возгласы, шутки гулко раздаются по воде и оживляют эти, в то время пустынные места, покрытые сплошным, дремучим лесом.
— Эх, господа, затянуть бы теперь нашу питерскую песню, благо тут ее никто кроме лешего да водяного не услышит и доносу учинить будет некому, — сказал один офицерик, высокий и худенький, с черными курчавыми волосами.