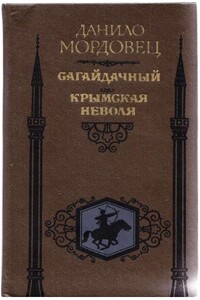Говоря это, старик отирал слезы.
— А тут вышел и царевич, — продолжал он. — С лица-то поправился, повеселел, совсем молодец-молодцом вдали-то от батюшкиного глазу. Батюшкин-то глазок сушит... Обрадовался мне и царевич. «Ласточка, говорит, с родной стороны прилетела». — «Собака, говорю, государь, старая с родной сторонушки». Пришел и братец Афрасинюшкин — Иван. Он тоже с ними уехал из российской земли. Порасспросили они меня, что и как дома. Я рассказал. Дивились, как я нашел их. «Перст Божий», — говорят. «Только вот страшно, — говорит царевич, — как бы слухи, что болтают навигаторы, не дошли до батюшки, тогда пропали мы».
Левин слушал рассеянно. Образ Евфросинии снова вызвал в его наболевшей памяти другой образ...
Ой гаю мій, гаю, великій розмаю!
Слова эти слышались где-то в мозгу. И голос песни слышался в душе, только это был голос той, которой он уже никогда не услышит...
О! Мимо! Мимо!.. Так можно изойти слезами...
Левин должен был сделать над собой громадное усилие, чтоб вслушаться и понять то, что говорил старик. А старик говорил:
— Пожив у них мало время, я направил стопы моя в Бар-град. И на пути бысть мне видение: сретоста ми два беса, един во образе мурина, другой же во образе жены плясавицы...
Мысль Левина опять потеряла нить рассказа. В его душе ныли растравляющие память звуки:
Ой гаю мій, гаю, великій розмаю!
Перед нами до сих пор проходили лица из тех сфер петровской Руси, где образы старого склада русской жизни живучими рефлексами коренились еще в умах, привычках и исторически унаследованном от предков мировоззрении и где отжившие и вырождавшиеся идеалы не могли еще вылиться в новые, хотя сколько-нибудь ясные и цельные образы. В этом обширном море старины глухо, словно волны, перекатывалось недовольство; но эти грозные волны были бессильны захлестнуть тот стойкий, могучий бот, который вел на буксире всю глухо стонущую Русь. Правда, старые идеалы были еще так же могучи, как и тот исторический бот, об который хлестались волны стонущей, недовольной Руси, но они покоились на невежестве масс, на спинах правда могучих, но все-таки на спинах в слепоте пребывающего досель народа. А образы новых идеалов у стонущей недовольством Руси еще не очерчивались в беспросветном мраке. Царевич, Евфросиния, Кикин, Вяземский, Никитушка Паломничек, некрасовец и калика перехожий Бурсак, Левин, навигатор князь Прозоровский — все это как бы нервами чувствовало, что жизнь не так бы должна идти, с ними заодно чувствовала и необозримая серая масса, чуявшая, что ее, как и заповедные рощи, «пятнать», «клеймить» скоро будут... но — «ничего не поделаешь»... Оставалось терпеть, страдать — и страдание становится целью, идеалом!
Теперь перед вами пройдут другие лица из того петровского сумрака, в котором даже не разберешь — из этих ли темных углов светится что-то более симпатичным светом, из углов, где царил страх и страдание, или с бортов того могучего бота, который слишком прямолинейно тащил к своему маяку серую массу, не думая о том, что она вся изобьется о подводные камни, шхеры, мели. А надо было тащить, надо, пора... давно пора!.. Перед нами должны пройти лица иного закала, лица, сидевшие на самом историческом боте русской жизни, уснащавшие его новыми снастями, державшие парус, цеплявшиеся за мачты, реи... У этих не те идеалы, да это и не идеалы, а осязательные реальности, за которые можно было ухватиться и подняться высоко, до верха мачты. Это — дельцы, взбиравшиеся на мачту и часто ломавшие себе шею...
Вон они почти все налицо или по крайней мере наиболее выдающиеся профили некоторых из них — вон они собрались на одной из первых ассамблей, устроенной по повелению царя. Хотя указ об ассамблеях издан Петром 26 ноября 1718 года, но самые ассамблеи существовали уже раньше закона о них, — закона, определявшего для них известные правила, часы собраний и пр. и повелевавшего, чтобы собрания назначались по очереди то у того, то у другого знатного лица.
На этот раз — ассамблея у Меншикова. Залы блестят убранством, яркостью украшений, богатым освещением и нарядами обоего пола знатных персон. Уже один говор толпы, летучие выражения и отдельные слова изобличают, что здесь доминирующая нота звучит в устах «новых людей», которые старались выказать свою европейскую «едукацию». Старое, непривычное ухо так и бьют модные слова — «баталии», «виктории», «навигации», «протекции», «кондиции», «сукцессии», «акциденции», «ассекурации» и «авантажи», «авантажи», «авантажи» без конца. Но тут же, рядом с «авантажами», старый слух ласкают допетровские звуки, допетровские возгласы и выражения: «Ах, мать моя!» — «Касатик мой!» — «Княжна Авдотьюшка». — «Ах, эта девка Марьюшка такой раритет!»