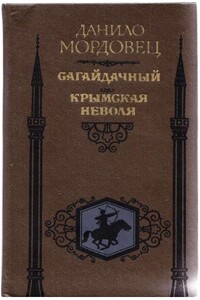— Погоди пужаться — рано еще: его нет здесь... Вот что, не ряса у него на уме, а саван твой, понимаешь? Он сам знает, что клобук не гвоздем прибивают, а вот гробовую-то крышку — так ту гвоздями...
Царевич с ужасом отступил от него. Руки Евфросинии невольно потянулись к Алексею.
— Что? Что? — шептал глухо последний. — Отец родной?.. Ты лжешь, подлец!
И Алексей было бросился к нему. Но Кикин остановил его своим оловянным, холодным как олово взглядом.
— Когда у тебя родился сын? — спросил он также шепотом.
— Октября 12-го, — отвечал царевич, подумав.
— А когда скончалась кронпринцесса, супруга твоя?
— Октября 22-го.
— А письмо когда он тебе отдал, то письмо, где он грозит лишить тебя престола?
— За день до того, как у него родился сын.
— А каким числом оно, письмо это, было подписано?
— Задним числом, за шестнадцать ден до отдачи.
— Ладно, смекай же теперь, что не об рясе думают, а об саване...
Царевич чуть не упал. Его поддержала Евфросиния.
Кикин приблизился к нему и на ухо сказал: «Не падай, государь, у тебя есть еще на кого опереться... У России и грудь, и плечи могутные, они твои, обопрись на них. А я поскачу в цесарскую землю, в Вену, проведаю вам с Евфросиньей Федоровной латынский монастырек с келейкою... не поссоритесь, живучи вместе пока...
А там... кто знает!»
Царевич обнял его и заплакал... А вдали продолжала ныть песня:
Распроклятая сторонка...
Ко Питеру привела...
В конце ноября того же 1716 года в Вене, в одной из улиц Леопольдштадта, у подъезда богатого отеля остановились неизвестные путешественники. Под ними было два экипажа. По внешней обстановке можно было догадаться, что путешественники — особы знатного рода. По костюму же слуг, сопровождавших путешественников, следовало заключить, что прибывшие были поляки.
В первом экипаже находилось двое молодых мужчин. Старшему из них можно было дать от двадцати пяти до двадцати восьми-девяти лет. Он был высок, бледен и задумчив, с таким выражением лица, какое иногда замечается у людей, которые сознают, что носят в себе неизлечимую болезнь, или готовятся к опасной операции, или, наконец, решаются на что-нибудь невозвратное. Младший же был совсем почти ребенок, с совершенно детским личиком, и его можно было действительно принять за ребенка, если бы высокий рост и хорошо развитые плечи не показывали, что он уже пережил детский возраст. Он был в костюме, напоминавшем пажа старого времени. Но что особенно поражало в этом мальчике, это необыкновенно богатые, роскошно падавшие на плечи и необыкновенно светлые, почти белые волосы, совсем не оттенявшие кругленькое, белоснежное личико юноши. Зато бесподобно оттеняли его темные брови, высоко вскинувшиеся над серыми глазами.
В другом экипаже находились служители этих путешественников.
В адресной книге отеля приказано было записать: «Польский шляхтич Коханский».
— Эти приезжие польские господа, должно быть, народ богатый, — передавал своим товарищам старый отельный кельнер Фриц, подмигивая одним глазом (это, впрочем, была его лакейская привычка таинственничать и таинственно подмигивать, хотя бы ему приходилось сообщать, что вакса не годится). — Люблю я этих поляков, польских господ то-есть, панов их, сорят дукатами на водку... Зо! (зо — тоже любимое слово Фрица).
— Ну, не говори, гер Фриц, — перебил его другой кельнер, поляк Юзеф. — Какое это польское панство? Их холопы, я заметил, не понимают по-польски. Я с ними заговаривал.
— Так что ж, что не понимают? У польских господ всегда эдакие замашки, чтоб лакеи у них были иностранцы — шик! — возражал Фриц, подмигивая. — Зо!
— Так-то так, да все что-то не так, — отстаивал свое мнение Юзеф. — Наш брат поляк не таков, а особливо пан... Закрутит это уса, брякнет шпорой, звякнет карабелей, глянет чертом, ну, так душа в пятки и уйдет! А это что? — Мокрая курица! — горячился Юзеф.
— Да, он, может, больной, бледный какой-то — зо!
— Больной!.. Эка важность! Наш брат поляк и больной орлом смотрит...
— То-то от орла-то своего, от пана, ты и тягу дал к нам в Вену — зо!
Юзеф сразу же нашелся.
— Что ж... ну, порют, правда... да это все от москалей, у них переняли, — бормотал он, — словно гонору — у них, у проклятых москалей.