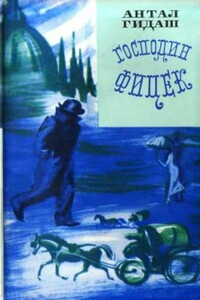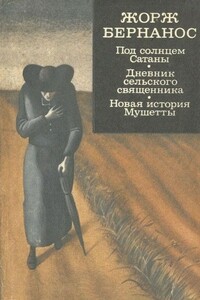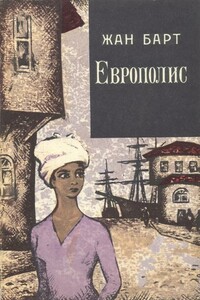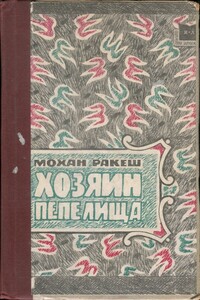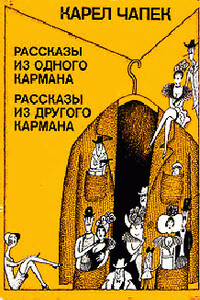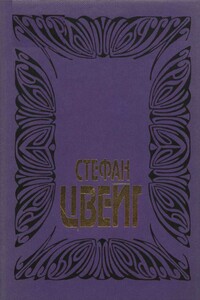Перед читателями романа развертывается широкая панорама жизни современного индийского города с его резкими контрастами: поселок мясников, населенный людьми, практически отвергнутыми обществом, и фешенебельные делийские кварталы, редакция маленького журнала, где начинает свою карьеру Мадхусудан, от лица которого ведется повествование в романе, и кабинет редактора крупной столичной газеты, дорогие рестораны и дешевые кафе, в которых собирается по вечерам творческая молодежь.
Читая роман, нельзя не заметить, что город в изображении Мохана Ракеша временами как бы начинает жить отдельно от его обитателей, и тогда гулкое эхо ночных шагов становится предупреждением запоздалому прохожему, ночные шорохи — шепотом переговаривающихся между собой стен, капли смолы, выступившей на асфальте, — потом изнывающих от полуденного зноя улиц. Вместе с героями романа читатель может совершить неторопливую прогулку по многолюдным паркам, отдохнуть в тени раскидистого дерева на одной из изумрудно-зеленых городских лужаек, пройтись по тесным ночным переулкам.
Но главная тема романа — это взаимоотношения творческой личности и общества, роль и место художника в жизни, его способность воздействовать на формирование общественного мнения.
Видя назначение художественного творчества в преобразовании жизни, активно выступая против формализма в литературе и искусстве, Мохан Ракеш немалое место в романе уделяет утверждению реалистических принципов, которым, по мнению писателя, неизбежно должен следовать каждый художник, искренне заинтересованный в служении своему народу и осознавший свою высокую социальную ответственность. Так, почти с первых страниц романа читатель становится свидетелем ожесточенных споров, которые ведут молодые художники — друзья главных героев романа, Харбанса и Нилимы. Автор сталкивает художников диаметрально противоположных взглядов — сторонника реализма в искусство Шивамохана и поклонника абстракционизма Дживана Бхаргава. Последнее слово в этом споре писатель оставляет за Шивамоханом, который восклицает: «…как можно говорить об эксперименте ради самого эксперимента? Ведь если эксперимент не рождается из глубочайшей потребности нашей души, он никому не интересен. Там же, где эта душевная потребность присутствует, не возникает необходимости в экспериментах. Там форма отливается сама собой, соответственно вашей потребности выразить себя…» Завершая свою мысль, Шивамохан подчеркивает, что без «биения человеческого сердца… искусство, каким бы заманчивым оно ни казалось внешне, совершенно бессодержательно — это, извините, либо шарлатанство, либо развлечение для скучающей публики».
Так мысли, неоднократно высказывавшиеся Моханом Ракешем в его многочисленных статьях, находят почти дословное выражение и на страницах его романа. Авторское неприятие формализма в искусстве подчеркивается в романе тем обстоятельством, что абстракционист Дживан Бхаргав впоследствии забрасывает свои запятая живописью и, соблазнившись большими деньгами, поступает на службу в крупную промышленную фирму. Размышления же Шивамохана о реалистическом искусстве, как могучем орудии воздействия на общество, находят горячий отклик в душе Мадхусудана, роль которого все более возрастает по мере развития действия романа и достигает своей наивысшей точки, когда он от механической репортерской работы и созерцательного отношения к жизни переходит к активному использованию своего журналистского таланта в интересах обездоленных жителей тесных каморок Мясницкого городка.
Рисуя сложную творческую судьбу центральной героини романа — Нилимы, автор вскрывает социальные условности, стоящие на пути одаренной танцовщицы. Сильная и одухотворенная натура, от природы наделенная разносторонними талантами, Нилима до конца романа так и не получает признания в своем любимом виде искусства — танце «бхарат-натьям». Ее муж Харбанс, считаясь с общественным мнением, согласно которому занятие танцами не к лицу женщине из приличной семьи, пытается отвлечь Нилиму от танцев, стремится заинтересовать ее живописью и с этой целью вводит ее в круг художников. Но, несмотря на успех своих картин, Нилима не находит удовлетворения в живописи, так как видит свое призвание в танце.