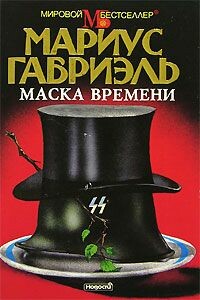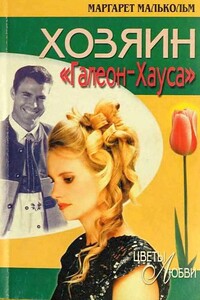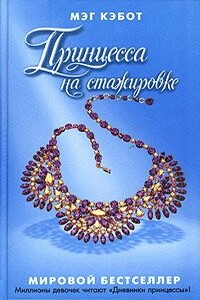Октябрь пришел в Новую Англию[9] в классическом наряде из золотых листьев и чистой голубизны прозрачного неба, но наступающий ноябрь должен был принести с собой мрачную погоду и холодные дожди. «Такая погода куда больше соответствует моему настроению», — думала про себя Франческа.
Как раз после Дня Благодарения[10] она перебралась в мансарду третьего этажа в доме своего дяди Кармина, в ту самую комнату, в которой жила в детстве. Никто не одобрил ее решения уединиться, семья считала, что она еще недостаточно оправилась от выпавших на ее долю испытаний, но вместе с тем все хотели, чтобы в ее снах не всплывали кошмары, от которых в первые несколько недель не могли спать не только она, но и все обитатели дома. Единственное, что по-настоящему беспокоило ее близких, было нежелание Франчески вообще выходить из дома.
Но она была довольна своим положением. Как выразился ее юный кузен, «Франческа нашла свою норку и забилась в нее», и это было именно то, что ей нравилось. Она грелась у семейного очага, особенно по воскресеньям, когда Луккезе и Деллафиори собирались за обедом. Потом Франческа часами смотрела телевизор в компании своих самых младших родственников — Джонни и Салли.
Никто никогда не упоминал при ней Палм-Бич. При выписке из больницы ей порекомендовали несколько недель отдыха, шел уже второй месяц ее пребывания в кругу родных. В семье господствовало мнение, что для окончательной поправки понадобится еще время — самое лучшее лекарство, которым они могли лечить Франческу.
Бывшая детская на третьем этаже и стала основным убежищем, где Франческа порой часами лежала на узкой кровати, рассматривая корешки своих старых книг на полках — от истрепанных школьных учебников до романов Нэнси Дрю. Ее взгляд бездумно скользил по школьным и институтским фотографиям в скромных рамках, по картинкам, вырезанным когда-то из иллюстрированных журналов. Глядя в окно на окружающие дом старые кирпичные здания, задворки складов и широкий боковой фасад церкви святого Антония Падуанского, она чувствовала, как в душе постепенно восстанавливается покой.
Ей было хорошо дома, вдоволь времени для размышлений о том, как она собирается жить и что будет делать со своими деньгами. Для раздумий о Карле и о Ванни и обо всем том, что не рассказали ей родственники. Она размышляла о том, что ее отец был юным священником, который по каким-то причинам, едва дав обеты Богу, тут же пожалел об этом, но тем не менее до конца жизни не решился нарушить их. И о том, что ее родственники многие годы должны были подозревать, что Карла Бла-дворт была ее настоящей матерью.