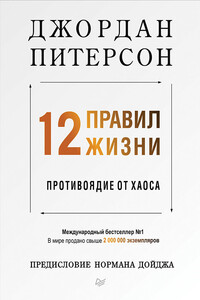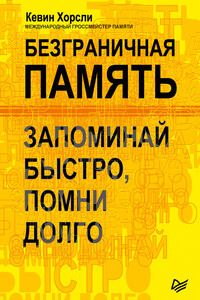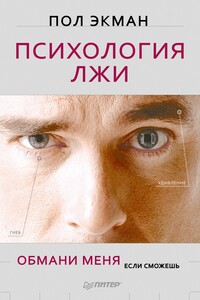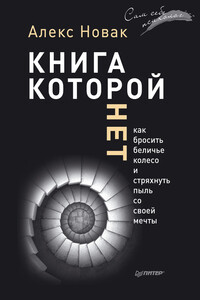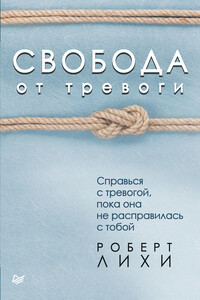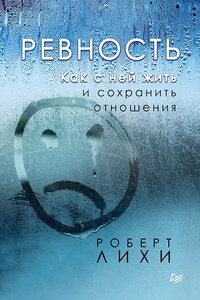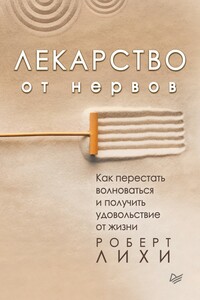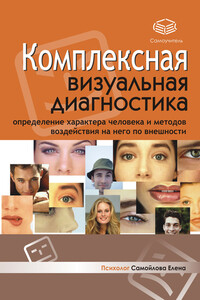Более того, когнитивные терапевты касаются вопросов смысла (и его отсутствия) в представлениях, через призму которых пациенты с депрессией или тревогой себя критикуют. Это могут быть представления, не имеющие практического воплощения, например: «ничего не стоящий человек» или «неудачник». Моя практика показывает, что пациентам полезно отказываться от использования обобщающих ярлыков для неизменных качеств («Я – бездарность»), переходя к более конкретным, связанным с поведением описаниям («Я не достиг этой цели в этот промежуток времени»). Уточняя и ограничивая описания поведенческими проявлениями, ситуациями и временем, терапевт и пациент могут прийти к пониманию того, что успешность деятельности варьируется в зависимости от контекста, убеждений, мотивации и выбираемых форм поведения. Такой конкретизированный подход к происходящему подталкивает пациентов к более гибкому мышлению и позволяет им проверять негативные мысли экспериментально. Например, я могу предложить: «Давайте попробуем другой подход к достижению этой цели и посмотрим, что произойдет». Ведь поведение можно менять – а черты личности кажутся нам статичными, в связи с чем у пациентов формируется уверенность в безнадежности попыток что-то изменить.
В рамках когнитивной модели «реальность» считается открытой системой. Это конструктивистский подход в том смысле, что в распоряжении «познающего» – в данном случае терапевта и пациента – никогда не окажутся все факты. Провести исчерпывающую проверку информации просто невозможно. В настоящей жизни решения принимаются на основе неполного знания, в реальном времени и всегда в условиях неопределенности. Такое представление об открытости системы важно для процесса принятия решений, который мы подробнее обсудим в главе 6. Знание эмпирического мира подразумевает скорее вероятности, чем несомненные факты. Предсказания всегда основываются на неполной информации. Признание того, что все наши заключения предполагают неполноту, неопределенность и вероятностность, – ключевой аспект позиции когнитивного терапевта. Поэтому, когда пациент требует определенности – «Да, но ведь именно я могу оказаться именно в том единственном самолете, который потерпит крушение!», – когнитивному терапевту следует, во-первых, признать существование такой экзистенциальной возможности и, во-вторых, подчеркнуть невозможность ее устранения. На самом деле пациенту важно ответить на вопрос: «Почему же мне так сложно принять неопределенность?» Таким образом, мы приходим к новому пониманию «познавательных потребностей» пациента – это желание точно предсказывать, что случится в будущем. Зачастую исследование этой потребности помогает осознать, что в системе координат пациента «определенность» отражает желание абсолютного контроля над происходящим, без которого якобы начнутся разнообразные происшествия. Ниже мы обсудим, почему тренинг переносимости неопределенности превращается в эффективное лекарство от волнения и руминаций, в которых «думающий» пытается исследовать все возможные варианты развития событий и соответствующие им решения, чтобы добиться определенности. Пациентам нужно признать не только необходимость принимать решения в неопределенном по своей природе мире, но и в принципе отсутствие в нем какой-либо определенности. Жизнь всегда происходит в реальном времени в условиях ограниченной информации и контроля.
Когнитивная терапия не пропагандирует силу позитивного мышления. Терапевту не нужно превращаться в чирлидера-оптимиста. Мы предлагаем пациенту оценивать аргументы за и против его убеждений, обдумывать возможные последствия использования иных подходов к осмыслению происходящего. Важно понять, что одну такую оценку мыслей нельзя считать вердиктом на всю оставшуюся жизнь. Нам постоянно поступает новая информация. Реальность – система изменяющаяся. Подобный взгляд на действительность позволяет пациенту поверить в возможность пересматривать убеждения и менять поведение, в способность принимать новые решения и рассматривать новые стратегии. Поиск решений – естественное изменяющееся состояние, существующее в динамической системе с непрерывной обратной связью, в том числе через мысли, поведение и результаты деятельности. Такая естественная, открытая, динамическая система отношения к мыслям, поведению и новым стратегиям – настоящее эпистемологическое противоядие для беспомощности и безнадежности. Мы всегда можем по-новому взглянуть на происходящее, всегда остается что-то, чего мы еще не пробовали делать.