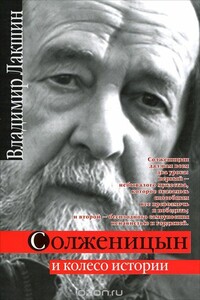– Позвольте представиться: Крынкин Александр Сергеевич. Чтобы вы никогда больше не переспрашивали, как меня зовут, напомню, что до меня вы знавали трех Александров Сергеевичей – Пушкина, Грибоедова и Даргомыжского. Теперь уж вы и меня не запамятуете… Я – четвертый. – И без всякой паузы или перехода начинает деловито развязывать свой мешок: – А это подарки… Вашей матушке… вашей благоверной супруге… вашему наследнику…
Из дед-морозовского мешка выползает земляничное мыло в яркой обертке, погремушка на кольце и набор почтовой бумаги с конвертами.
– Маленькие подарки делают большую дружбу, – гудит он, снимая шапку с ушами и разматывая грязно-рыжий шарф. А раздевшись и оглядев меня пристально, тут же переходит на ты: – Да дай, наконец, я тебя обниму!
И обнимает так, что кости трещат. Кажется, вместе с морозным воздухом улицы в приоткрытую дверь ворвался дух бесцеремонного веселья.
Я давно замечал: музам по душе чудаки, бессребреники, шуты и скоморохи – странные существа, не мешающиеся с толпой. Есть в ином человеке дар быстрой импровизации, талантливо-детского, немедленного отклика на всё, который мы зовем непосредственностью. Наверное, чтобы этот житейский талант перенести в искусство, на сцену, нужны еще и огромная собранность, труд, организующий вдохновение, создающий завершенность и форму. Меня всегда занимала проблема существования великих незнаменитостей в окрестностях искусства, людей, много значащих для других артистов, но, как правило, остающихся в глубокой тени кулис. Жестокий, хоть и не лишенный справедливости взгляд: если кого-то не узнала, не заметила публика, значит, и быть посему – пороху не хватило, талант не так велик, чтоб пробиться, в забвение ему и дорога. Но я не раз замечал, что почву театра, сам воздух живого искусства часто создают не увенчанные всеми лаврами и обремененные важностью знаменитости, а люди, для которых «игра» – ежеминутная стихия жизни. Таким был Александр Сергеевич Крынкин.
…Мы сидим с Крынкиным за накрытым столом, он вспоминает что-то смешное, редкостное, темпераментно прерывая меня. Чокаясь, по-детски вскрикивает:
– Ты и эту радость знаешь? А я, вообрази, до пятидесяти лет не восчувствовал… Папенька с маменькой так воспитали – ни рюмки вина, ни понюшки табаку… Теперь, бывает, огорчаюсь: сколько веселья-то пропущено…
Он не дает мне рта раскрыть, а я все хочу сказать ему, что давно знаком с ним.
Было это году в 1950-м, в Пестове, под Москвой. Тогда к этому тихому заповедному месту на большой воде, широко разлившейся на пути канала Москва – Волга, еще не подлетали бесшумные, в водных усах «ракеты», а медленно-медленно, чадя, пыхтя и стуча машиной, тащился едва ль не три часа от Химок крошечный теплоход, носивший имя одного из довоенных героев-летчиков – «Чкалов», «Байдуков» или «Водопьянов». Он подходил к маленькой деревянной пристаньке с голубым навесом на белых столбах и долго чалился за бревенчатый пенек-тумбу.
По мощенной кое-как булыжником и обсаженной старыми березами дороге вы поднимались к бывшему барскому имению, стоявшему некогда на высоком обрыве над излучиной Учи. С конца 30-х годов здесь отдыхали в летнюю пору артисты Художественного театра. Пристань так и называлась тогда: «Дом отдыха МХАТ».
Место и человек, которого там встретил, тесно срастаются в памяти, так что пусть читатель, настроившийся на рассказ о Крынкине, не посетует на меня за историко-топографическое отступление. Старожилы еще помнили историю поместья над Учой – она была примечательна. После войны 1812 года хозяин Зимнего дворца пожаловал земли, лежащие в урочище подмосковной речки Учи, генералу Ермолову в ознаменование его заслуг перед отечеством. Деревни здесь не было, и Ермолов переселил на дарованные ему земли крестьян из своего родового поместья в Орловской губернии. Срубили они себе избы и занялись устройством барского дома и парка: пестовали и выпестовали эту землю. Оттуда будто бы и название пошло – Пестово.
До своей отставки Ермолов мало жил в России, командуя русским войском на Кавказе, и лишь редкими наездами успевал узнать, как лелеется и украшается его новая подмосковная. Времена роскошных усадеб вельможного XVIII века отошли, но все же перед фасадом барского дома была устроена английская лужайка с четырьмя могучими дубами по краям, а за нею начиналась система перетекающих один в другой прудов, главный из которых имел форму кувшина. В Белом доме, как его называли, – впрочем, без всякой связи с резиденцией американских президентов – позднее жил фабрикант Арманд.