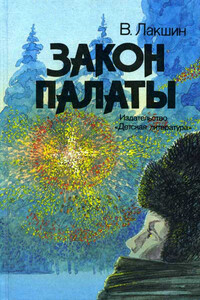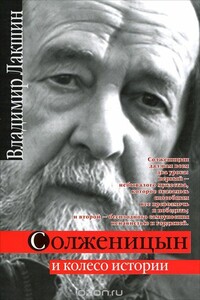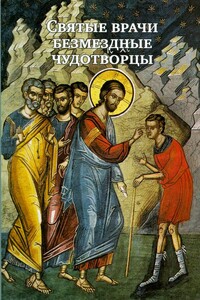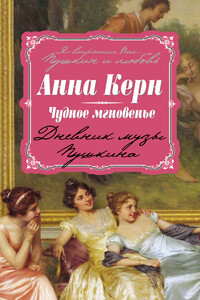Мое место было в первом ряду, и я видел Топоркова совсем близко, в упор, в трех шагах, без привычной дистанции рампы и высоких подмостков. Он вышел и сел у круглого стола, где я только что говорил в микрофон. Его партнершей на этот раз была Лариса Мамонтовна Топоркова (жена Василия Осиповича, дочь известного трагика Мамонта Дальского). Накинув на голову и плечи пестрый платок, она подала ему первые реплики смотрительши…
И вдруг куда-то пропало душное, наполненное сотней людей зальце с софитами, повеяло пургой, стужей, и я увидел Биткова: зябко передернув плечами, поджав руки в обшлага, подняв воротник концертного пиджака, он дул на промерзшие пальцы и нетерпеливо требовал у Петровны штоф с водкой. Как жадно, поспешно опрокидывал он стопку и как беспокойно, раздерганно говорил! Актерская техника? Нет! Это было чудо перевоплощения. И на пустой маленькой сцене с цветами у пушкинского портрета на мольберте возникло передо мною все: метельный февральский вечер, и вонючая, грязная изба почтового двора, и где-то за дверью, в десяти шагах, заметаемая снегом повозка с гробом, и постылая сыщицкая служба, и горе потери, и вся неудавшаяся, погубленная подлостью и позором жизнь Биткова.
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя…
Долго еще потом звучал в моих ушах голос Топоркова, читающего эти стихи…
О людях, подобных Топоркову, хорошо говорить с теми, кто видел их на сцене или помнит живое с ними общение: его искусство несло на себе печать безусловной правды и оттого излучало энергию радости. В этом он несомненно родня своим любимым авторам – Островскому, Толстому, Булгакову и, через Булгакова, Пушкину. Вот почему еще долго после его ухода я ловлю на лицах людей, с которыми о нем вспоминаю, отблеск веселого света.
В юности я боготворил Чехова. Он был для меня больше, чем любимый писатель. В ту пору, когда еще не различаешь, где несомненные твои чувства, а где отроческое подражание чужим, меня поработил Чехов. «Чеховская тоска» и «чеховский юмор» проходили по мне волнами и усваивались, будто состояния собственной души. Нечего и говорить, что я пересмотрел на московской сцене все шедшие тогда его пьесы, целыми страницами жарил наизусть его рассказы и ввертывал в разговор фразы из его писем, надолго ставших моим любимым чтением.
Я хотел знать, я заранее любил всякую подробность его жизни, всякую мелочь, какая его касалась. Но было тут одно странное исключение. Пристрастный ко всему, что с ним связано, я определенно недолюбливал его жену Книппер-Чехову. Как это она не бросила театр, не осталась с ним, когда он задыхался на своем «Чертовом острове», в «парикмахерском городе», постылой Ялте! С недобрым удовлетворением я отмечал про себя в его письмах, таких личных и нежно-шутливых, словечки – «актрисулька», «змея», «сентиментальная немка», обращенные к Книппер. Нет, не пара ему эта холодная особа, не решившаяся принести в жертву больному Чехову свой сценический успех, – таково было расхожее мнение, и я охотно ему покорился.
Литератор А. Б. Дерман, опубликовавший еще в З0-е годы в двух плотных зелененьких томиках взаимную переписку Чехова и Книппер, пожалуй, поторопился и сделал Ольге Леонардовне дурную услугу: пристрастное чувство, частенько возникающее у читателей к женам своих кумиров (пусть бы Пушкин женился не на Наталии Николаевне, а на пушкинисте Щеголеве, иронизировал Б. Пастернак), обратилось и против Книппер. И никакие заслуги собственной громкой театральной славы не могли заставить замолчать ревнивую молву.
А все же это было чудо: в одно время с нами, в одном городе и даже в том же доме, где я жил в раннем детстве, жила вдова Чехова – это не могло не будоражить воображение.
Когда целое поколение сменяется и уходит, оно еще оставляет нам на какой-то срок своих одиноких часовых, последних вестников прошлого, способных донести до нас дыхание былой эпохи. И внезапное пересечение их с нашей жизнью поражает, как весть с иной планеты.
Таков был, к слову сказать, Владимир Иванович Немирович-Данченко. Дожив до весьма почтенного возраста и до последнего дня не оставляя работу в театре, он любил изумлять молодых актеров упоминаниями о коротком знакомстве со знаменитыми людьми прошлого века. Репетиции новой пьесы классического репертуара он непременно начинал с застольной беседы об изображенной в ней эпохе и привычно вворачивал словцо о своих встречах с автором. Не удивительно, что он говорил: «Когда я убедил Антона Павловича вернуться к драматургии и он отдал мне “Чайку”…» Или: «Когда я ездил ко Льву Николаевичу в Ясную беседовать о “Живом трупе”…»