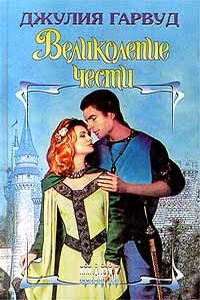Пока он боролся с подступающей рвотой, женщина каким-то чудом успела слезть с кровати и подставить ему ночной горшок — как раз в тот момент, когда его тело пересилило его волю.
По крайней мере, судорожно опорожнив желудок, он почувствовал себя легче. Когда он вновь повалился на подушку, в череп уже не впивались острые лезвия, остались лишь молоточки.
К несчастью, по комнате распространилось зловоние. Еще никогда в своей взрослой жизни он не чувствовал себя так неловко.
— Простите меня, пожалуйста…
— Ничего.
В ее тоне слышалась насмешка, и он застонал от досады. Нет сомнений, что вчера вечером, затаскивая ее в постель, он был обходителен и галантен, а теперь превратился в беспомощного, больного ребенка.
Она отерла его лицо мокрым полотенцем, потом слегка приподняла ему голову, и в губы ему ткнулось холодное стекло.
— Еще, — сказал он, выпив всю воду.
Послышался звон посуды и многообещающий плеск. Хорошо, что она не зажгла свечу: ему становилось плохо при одной мысли о ярком свете. Через несколько мгновений она поднесла ему еще один стакан с водой. Он выпил и благодарно откинулся на перину.
На перину? Но в гостиницах не бывает перин.
— Где я? — опять спросил он. Кажется, она уже отвечала на этот вопрос, но он забыл.
— В Гиллсете.
Это не похоже на название гостиницы. Скорее, ферма. Или даже богатый дом…
— Как вас зовут, сэр? Нам надо кого-нибудь оповестить о том, что вы здесь?
Слава Богу, ему не пришлось отвечать «не знаю», потому что в следующее мгновение он опять провалился в черную дыру.
Розамунда выпрямилась и покачала головой.
Она хотела согрешить, изменить мужу, а осталась с вонючим ночным горшком в руках. Может, ее скучная жизнь — не следствие дорожной аварии, а просто судьба?
Но по крайней мере ей удалось его обмануть, когда он спросил, где находится.
Вообще-то она не умела убедительно врать, терпеть не могла ложь, запиналась и виновато краснела, чем не раз выдавала себя и Диану. Однако сегодня она солгала довольно бесстрастно, а темнота скрыла ее пылающие щеки. Что ж, может быть, ей все-таки удастся исполнить свой безумный план.
Конечно, не сейчас — придется подождать, пока он поправится. А значит, пока можно заняться ночными горшками.
Девушка открыла окно, чтобы проветрить комнату, потом надела платье и вынесла горшок в коридор. Оставить его здесь она не могла, поэтому, взяв маленький ночник, прокралась по лестнице на первый этаж и тихо выставила горшок за заднюю дверь.
Вернувшись к себе в комнату, она достала из-под кровати свой ночной горшок и отнесла в спальню незнакомца. Может, остаться здесь на случай, если ему опять станет плохо? Нет, не стоит. Этот негодник напился до чертиков, пусть теперь трезвеет без ее помощи!
Крайне раздосадованная, Розамунда свернулась калачиком в своей постели, которая к тому времени совсем остыла. Впрочем, вскоре ей опять стало смешно. С чего она решила, что больной человек проснется, преисполненный романтических намерений? Право же, какая глупость!
И все-таки жаль, что он не проснулся. Покончить бы со всем этим одним махом и забыть.
Розамунда повернулась и взбила свою подушку, отчего-то чувствуя себя несчастной. Да, она только что размышляла о своей скучной жизни. Обычно она гнала от себя такие мысли.
Ведь у нее замечательная жизнь: добрый муж, уютный дом, процветающее поместье, в котором всегда есть работа. Рядом любящие родители и повсюду — хорошие друзья.
После аварии она вполне могла сделаться затворницей, но Дигби спас ее, любезно предложив выйти за него замуж.
Но разве она не затворница? Даже живя среди людей, Розамунда никогда не покидала поместье. Потому что боялась. Эта поездка в Харрогит была ее первым выходом из Уэнслидейла за последние восемь лет.
И что с того? Девушка повернулась и снова взбила подушку. Многим нравится сидеть дома. В Уэнслидейле есть люди, которые даже в Ричмонде никогда не бывали!
Однако все дело в том, что ей не нравится такая жизнь. Она чувствует себя отрезанной от мира из-за своего лица.
Она коснулась пальцами шрама справа от глаза. Нет, этот еще не так страшен. А вот другой — длинный, который тянется вниз по щеке… Правда, родные и Диана постоянно твердили, что он совершенно ее не уродует.