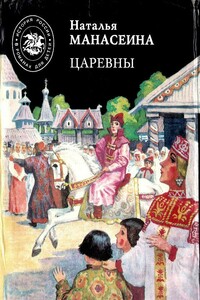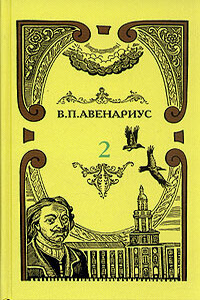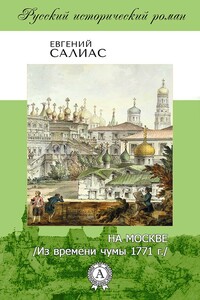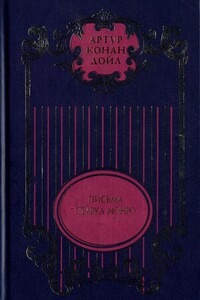Он охотно дал свое согласие на прием именитого русского. Фамилию этого дворянина Петерсон упомянул вскользь, хорошо зная, что герцог уже получил рапорт Бранта.
«Пусть боярин сам объясняется, — подумал хитрый немец. — Я устроил ему аудиенцию, а там пусть разбирается».
Петерсон дал Кочкареву особый билет, пропуск в Летний дворец.
Оставив лошадей и слуг у ворот, Артемий Никитич направился по широким аллеям сада к манежу, где ему была назначена аудиенция. Его не раз останавливали караульные сторожа, но когда он показывал свой билет, они, почтительно снимая шляпы, пропускали его дальше.
У входа в манеж он случайно встретился с Петерсоном, на лице которого было выражение растерянности и некоторого страха.
— Не лучше ли, — обратился он к Артемию Никитичу, — вам прийти в другой раз?
— А что? — с тревогой спросил Кочкарев.
— Да его светлость как будто сегодня не в духе, — ответил Петерсон.
Кочкарев только рукой махнул.
— Бог не выдаст…
— Ну, как знаете, — произнес Петерсон. Весь разговор велся на немецком языке. Кочкарев хотя и не совсем свободно, но мог на нем изъясняться. Понимал же он все.
В конце манежа была устроена ложа, обитая малиновым бархатом, из которой на арену спускались ступени, покрытые таким же ковром.
Это была ложа императрицы, откуда она с высокого кресла наблюдала дрессировку лошадей, в которой герцог был действительно мастер, и его фигурную езду.
К этой ложе ей подводили лошадь, когда она изъявляла желание кататься верхом. Отсюда она стреляла иногда в цель, установленную на другом конце манежа, из лука или мушкета, в чем достигла значительного совершенства.
На ступенях ложи стоял Бирон. Зеленый полукафтан без пуговиц обтягивал его стройную фигуру. На груди были Андреевская звезда и осыпанный бриллиантами портрет императрицы.
На ногах были ботфорты с широкими раструбами.
На руках белые лосиновые перчатки-краги, в которых он держал тяжелый хлыст-палку, с массивным золотым набалдашником.
Его красивое, сухое, с правильными чертами лицо (особенно был красив его профиль) поражало одной странностью. Оно было неподвижно, как каменное изваяние. Когда он говорил, шевелился только рот. Ни дрожания ноздрей, ни подвижности щек не было в этом мраморном лице. Оно не умело и улыбаться. Герцог иногда смеялся, и тогда его смех, сухой и деревянный, словно вылетал из его слегка приоткрытых губ, не озаряя остальной части лица.
Глаза постоянно сохраняли свой холодный металлический блеск и выражение жестокости и высокомерия. Тем страшнее было это лицо в минуты гнева и бешенства: зрачки глаз суживались, из сжатых губ вылетали резкие свистящие звуки, на губах выступала пена, но лоб оставался гладок и чист, и все лицо хранило окаменелое спокойствие.
Это странное свойство лица позволяло герцогу скрывать свои истинные чувства и обманывало и пугало его врагов.
Кочкарев остановился у дверей и низко поклонился в сторону герцога.
Герцог мельком взглянул на него и сейчас же отвернулся в сторону лошадей.
По двое берейторов проводили перед ним, держа с двух сторон под уздцы, одну за другой лошадей, покрытых цветными попонами с золотыми герцогскими вензелями.
Сразу было заметно, что герцог не в духе. Он нервно бил себя хлыстом по ботфортам, изредка отпуская гневные замечания.
Он спустился на нижнюю ступеньку лестницы, ведущей от ложи, и иногда, чем-то недовольный, не разбирая, бил своим хлыстом какого-нибудь берейтора; тогда лошади фыркали, поднимались на дыбы, берейторы с трудом сдерживали кровных коней, и эта сумятица, этот беспорядок еще больше раздражали герцога.
Но вот вывели из конюшни дивную белую лошадь. Кочкарев, сам любитель и знаток лошадей, пришел в восторг от ее форм: от тонких, прямых, как стрела, ног и маленькой благородной головы, с раздутыми ноздрями и пылавшими глазами.
«Сам Саладин не ездил на лучшем коне», — подумал он.
Это действительно был настоящий арабский конь, но выдрессированный и вымуштрованный, присланный Анне Иоанновне вместе со слоном в подарок персидским шахом.
Конь был покрыт тяжелым бархатным малиновым чепраком, затканным золотыми императорскими орлами, с вензелями императрицы.