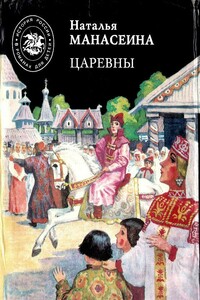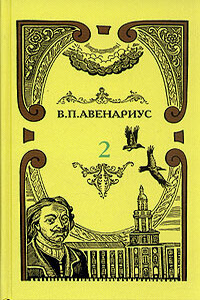— Настасья Алексеевна видела, — возразил Сеня.
— Ну, ну, — прервал его Артемий Никитич, — я верю тебе и без Насти.
Но когда Сеня рассказал про крылья да еще про снаряд, придуманный им, что будет летать без помощи ног, Кочкарев стал серьезен.
— Уж не зашел ли у тебя ум за разум? — спросил он. — Понимаешь ли ты, что тогда та держава, у которой будут твои крылья, мир может покорить? Понимаешь ли, что будет?
— Понимаю, — взволнованно ответил Сеня, — понимаю и доведу о сем до сведения царицы!..
Кочкарев обнял его.
— Помоги тебе Бог, — сказал он, — у меня теперь у самого петля на шее, не могу оказать тебе покровительства. А ежели деньги тебе понадобятся, то весь твой. А махинацию твою привези показать, сам видишь, какой простор у нас.
Сеня ушел совсем растроганный и в сотый раз давал себе клятву, что единой наградой за свое изобретение попросит только милости для Артемия Никитича и его семейства.
«Отплачу, отплачу тебе за все, — восторженно думал он. — Все отдам вам, мне ничего не надо…»
Но при мысли о Настеньке горькие слезы закипали в его душе, хотя он уже не чувствовал себя таким одиноким, как в последнее время в Артемьевке, все же теперь были люди, с которыми он мог поговорить по душам — это гонимый и осмеянный профессор элоквенции Василий Кириллович Тредиаковский и его дочь, Варенька.
«Почему Варенька не Настя?!» — приходила ему в голову мысль, когда Варенька так внимательно, так участливо слушала его рассказы.
Вблизи Красного канала на Миллионной улице стоял замечательно красивый дом с четырьмя колоннами из черного с белыми полосками мрамора, привезенного из северной части Карелии и взятого на церковной земле Рускеале.
Дом этот был построен по плану академика Крафта и по праву считался одним из лучших домов Петербурга той эпохи.
Этот роскошный дом принадлежал подполковнику лейб-гвардии Измайловского полка, генерал-адъютанту Густаву Бирону, брату страшного герцога Курляндского, фаворита государыни.
Ко дворцу то и дело подъезжали экипажи. Приемная была наполнена офицерами. Их красные полукафтаны, с золотыми пуговицами и галунами, с золотой перевязью через плечо, живописно выделялись среди темных форм других полков.
Генерал вернулся из похода.
То здесь, то там стояли отдельными группами офицеры и вполголоса вели беседу.
Молодой барон Мейендорф, совершивший с генералом кампанию, с увлечением передавал подробности похода. Фельдмаршал Миних поручил ему везти трофеи и пленных. Но, торопясь в столицу, генерал оставил в Киеве пленных и трофеи и привез сюда с собою только пленного хотинского пашу. В другой группе говорили о готовящихся наградах, причем Густаву Бирону пророчили не меньше как чин генерал-аншефа. Говорили, что никогда не видели генерала таким довольным и веселым.
Среди присутствовавших был и Павлуша Астафьев. Он с тревогой прислушивался к разговорам. Одно его радовало, что командир в хорошем расположении духа. Но на душе молодого сержанта было скверно. Он уже знал, что в канцелярии получена о нем строгая бумага, а сегодня он был вызван к командиру. Дело могло принять скверный оборот.
К нему подошел его товарищ, известный кутила и гуляка Толбузин, тоже бледный и встревоженный. Он знал о беде, угрожавшей его приятелю, но старался ободрить его, хотя ему самому тоже грозила, быть может, тяжелая ответственность.
— Не вешай носа, Павлуша, — сказал Толбузин, — перемелется все, мука будет, мое дело тоже не важно.
И он рассказал, как с компанией приятелей он, князь Солнцев и Хрущев кутили в кабачке у Вознесенского кладбища. Этот кабачок был хорошо знаком всей гвардейской молодежи.
— Играли на бильярде, пили, в карты играли, ну и того, компанию прекрасную себе подобрали. Вдруг прискакали на тройках офицеры Конного полка, Зиновьев со всей своей ватагой, человек пять. И уж пьяны. Первоначально хотели у нас бильярд отбить, так мы их киями, они в нас бутылками. И пошла писать… А потом, как нечаянно я попал в зубы Зиновьеву кием, он и очертел, да за шпагу. Я бросил кий, тоже за шпагу. Ей-ей, не помню, что было. Помню только, что вышибли мы их на улицу. Зиновьев с товарищами славные ребята. Сегодня мы их, завтра они нас. Не впервой, и доносить не станут. А только молодой Бирон узнал, что его офицеров мы малость продырявили, у Зиновьева оказалось плечо проткнуто, а у Теплова рука сломана. С этого и началось, тот к отцу. Дядя к племяннику, племянник к дяде, сам к брату, брат к нему. Такую кашу заварили, что не дай Бог.