Тайна Кутузовского проспекта - страница 93
«Палач. Скажите, Марта («Зоя», «Зоя», «Зоя» — в нем все ликовало и пело), что вы ощутили, когда вас впервые поставили в шкаф? Вас там сколько времени Держали? Двадцать четыре часа?
Марта. Уж и не помните? Сами, небось, распоряжение отдавали…
Палач. Я был лишен права на то, чтобы отдать распоряжение, Марта… Я выполнял приказ… Понимаете? Мы все были звеньями одной цепи. Цепочка протягивалась сверху донизу, прервать ее было невозможно… Следовало хитрить, таиться, идти на обман, но такой, который бы оказался приемлемым для начальника; тот, в свою очередь, обманывал высший эшелон; тотальность лжи, подчиненной непререкаемому, хоть часто и бесполезному, основоположению: «применить высшую степень устрашения»… Срок, срок, срок… Отчет, отчет, отчет… А может, ради успеха комбинации надо было затаиться и ждать, пока арестованный дозреет без применения пыток и устрашения? Это верх наслаждения, когда арестант сам разваливается…»
Сорокин поднял глаза на Пшенкина, покачал головой:
— Ах, Боря, Боря, милый ты мой человек, добрая душа… «Разваливается» — русское слово, тюремный жаргон… А это «небось»? Так в гестапо не говорили, ведь читатель невесть что может подумать…
— Валерий Юрьевич, в каком веке живете?! Сейчас все, что угодно, можно печатать…
— Сейчас — да. А завтра? Ладно, эти словечки мы замараем… Кофейку сваргань, я продолжу чтение…
«Марта. Значит, считаете, вам было страшнее жить под Гитлером, чем нам, жертвам?
Палач. Конечно! Вам-то ведь было уж нечего терять! Когда захлопывалась дверь камеры — человек кончен, вместо имени — номер или инициалы. А мы ждали, Марта… Мы верили в то, что бред рано или поздно кончится, потому и норовили установить добрые отношения с теми, кого вводили к нам на допрос: неизвестно, как повернется дело в будущем…
Марта. Неужели вы сомневались в незыблемости рейха?
Палач. Поначалу — нет, не сомневался… Но ведь чем глубже погружаешься в подробности, чем больше правды открывается, тем хуже становится сон, тем больше у нас появляется психов — был нормальный товарищ, как все мы, — а назавтра кукарекать начал в кабинете…»
Сорокин тщательно вымарал слово «товарищ», заменил на «человек» и, принюхавшись к запаху кофе, продолжил чтение, усмешливо покачивая головой.
«Марта. Хотите, чтоб я пожалела вас, бедненьких?
Палач. Хочу… Мне было страшнее и горше, чем вам, поверьте…
Марта. Не верю… Когда вы бросили меня в камеру, полную клопов, и они жрали меня всю ночь, а свет был выключен, и не было от них спасения, казалось, я хожу по ним, как по болотной воде, хрусткой и кровавой, а они лезут по мне, шевелятся в волосах, заползают в уши, ноздри, глаза, я забыла, что такое жалость, я испытывала звериную сладость от того, как давила их, била вспухшими ладонями, прыгала, вслушиваясь в сытный звук лопающегося умирания безмолвных палачей.
Палач. И снова вы не вправе судить меня, Марта… Судите науку… Думаете, такая камера родилась сама по себе? Нет. Она появилась как следствие работы человеческой мысли… Да, да, не возражайте! Трудился целый институт, сориентированный на то, чтобы помочь рейху быстрее добиваться от узников правды… Конечно, пытки надежнее всего развязывали языки, физическая боль противоестественна, она отторгается разумом, но ведь после того, как узник дал показания, угодные высшей правде фюрера, он мог отказаться от них в суде! Скандал! Брак! Палач становится узником! В то время как мука, подобная той, которую пришлось перенести вам, входит в мозг навечно, никаких следов, зато постоянная память об ужасе, вы никогда не начнете скандал в суде… Намерены возразить, что наука не имела права на такие эксперименты?
Марта. Вы никогда не думали, что этой муке могла быть подвергнута ваша мать? Дочь?
Палач. Моя мать выросла в условиях ада, ей не привыкать к клопам, тесноте, голоду… Нашими пациентами были люди иного разлива, Марта, те, которых отличал внутренний аристократизм… Чернь не страшна режиму, страшны мыслящие, которых всегда крошечное меньшинство… Вы говорите «дочь»… Это вопрос морали — отношение к детям… Но мораль сама по себе аморальна, дорогая Марта. Инквизиция зажигала костры, следуя морали той поры. Ученые, отправившие на костер Бруно, свято следовали постулатам своей морали… Наши доктора, работавшие со вшами и клопами, следовали в своей работе утвержденным нормам морали рейха.


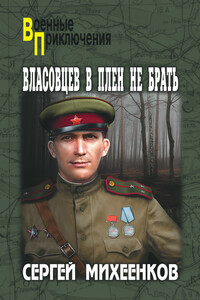





![Расследования Берковича 7 [сборник]](/uploads/books/images/05/059fed21cdd463f4fb84a9fb7798bea05096f86d.jpg)
![Расследования Берковича 11 [сборник]](/uploads/books/images/b4/b4d1bcadf8f8da8bb22e7a1f6b21939ba9e28efb.jpg)
![Расследования Берковича 12 [сборник]](/uploads/books/images/19/19139da6ccfbb4bfe1a543141cd4ea265631da79.jpg)
![Расследования Берковича 9 [сборник]](/uploads/books/images/66/669e677c3840e37f130f6b5c3f11e9adef03d3f3.jpg)