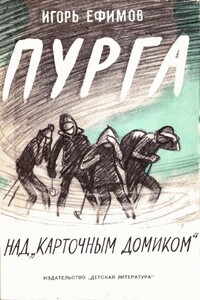ГЛАВА, В КОТОРОЙ ЕЩЕ НИЧЕГО НЕ КОНЧАЕТСЯ
Когда я пришел на следующий день в школу, все уже знали, что пропал журнал, и была паника. Все галдели и кричали друг на друга, и больше всех кричали отличники, а Фимка сидел верхом на парте и всех подозревал.
— Наверное, это Борька стянул, — сказал он мне сразу, как только я вошел. — У него больше всех двоек, он и стянул.
— Сам ты стянул, — сказал Игорь. — Разве это от двоек поможет? Ни за что не поможет, только еще хуже будет. Не надо было его трогать, с журналами лучше не связываться.
Я заметил, что теперь, когда журнал пропал, Игорь еще больше стал его бояться, а я думал, что он-то обязательно обрадуется.
— Нет, — сказал Фимка, — наверно, все же не Борька. Вон он как заливается, как паровоз. А кто же тогда?
— Эх ты, — сказал Игорь, — сыщик.
В это время в класс вошла Антонина Сергеевна, и лицо у нее было расстроенное, как в больнице.
— Садитесь все по местам, — сказала она. — Тише. Первого урока у вас не будет. Сейчас я уйду, и вы сами обсудите, что делать. Я обещала директору, что к концу этого часа журнал будет на месте, и я на вас надеюсь. Все.
Когда она ушла, первым вскочил Юрка Десятников и закричал, что можно делать что угодно, и он, конечно, тоже однажды поджег парту, но воровать журнал — это уже слишком. Он хотел еще сказать о бдительности, но тут девочки начали кричать, что он сам ужасный хулиган и кому бы говорить, только не ему, а Боря Кашленко вступился за него и сказал, что кто против Юрки скажет, схватит по мозгам, хоть девчонка, хоть кто; и после этого поднялся такой крик, что ничего уже нельзя было разобрать. Кто кричал про журнал, кто про двойки, и все подозревали друг друга и вспоминали, кто как хулиганил, а некоторые просто так орали и стучали по партам, как сумасшедшие.
«Вот что я наделал, — подумал я тогда. — Это из-за меня. Выходит, я уже стал негодяем, только не заметил когда».
Мне вдруг стало на все наплевать, будто я уже умер. Пускай меня не пустят в Сиверскую, пускай исключат из школы, пусть что хотят делают, раз я умер, только бы они перестали кричать и показывать пальцами друг на друга.
«Что я буду всем им жизнь отравлять, — подумал я, — лучше бы мне умереть».
Я взял промокашку и написал на ней, где я спрятал журнал, а потом толкнул Фимку, чтобы он перестал орать, и отдал ему эту записку.
— Вот, прочтешь, когда я уйду, — сказал я ему и пошел к двери.
Никто, кажется, не обратил на меня внимания, и я, выйдя за дверь, сразу же побежал вниз, чтобы Фимка не успел очухаться и не потащил бы меня обратно.
На улице было очень тихо и светло, хоть и без солнца, и я пошел просто так прямо, потому что не знал еще, куда мне идти и что делать.
«Нет, — думал я, — теперь уже все. Никогда мне не исправиться, ни ученым не стать, никем. Мама придет в такой ужас, что никогда теперь не пустит меня в Сиверскую к Вадику, а без этого зачем же мне жить? Совершенно незачем».
Мне вдруг так захотелось, чтобы было зачем жить, что я не выдержал и даже побежал. Я тогда еще не соображал, куда, а все бежал мимо домов, переулками, какими-то дворами, потом проехал немного на подножке и снова побежал пешком; и так я бежал, пока не увидел мостик и за ним Варшавский вокзал с большими буквами на крыше.
«Так вот куда я бежал, — понял я и остановился. — Ну и пусть! Раз теперь все равно уже хуже не станет, я поеду в Сиверскую, а там будь что будет!»
— Ну и пусть! — крикнул я вслух и помчался через мостик к вокзалу налево, туда, где кассы.
Я бежал и думал очень быстро и про все сразу: и про маму, и про журнал, и про Стеллу, и, главное, я думал, что, может, еще не все кончено, мы пойдем ловить рыбу, и у нас с Вадиком хватит времени обо всем поговорить, и мы обсудим с ним и с Кадырой тоже, кем надо быть, чтобы не стать негодяем, и может, тогда все уладится и снова можно будет жить хорошо и интересно, что бы там с нами ни случалось.