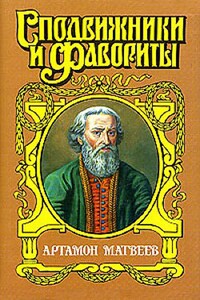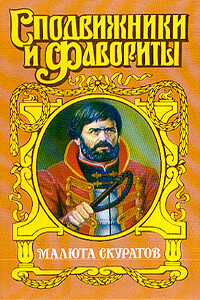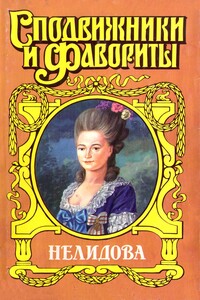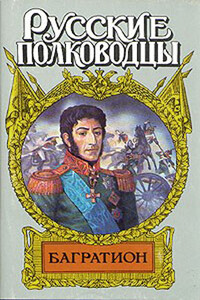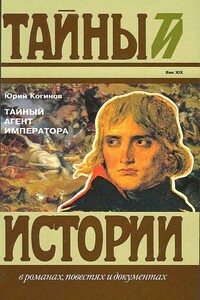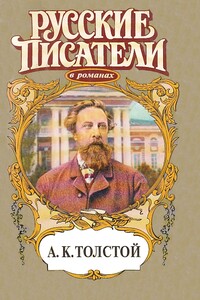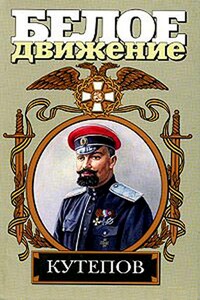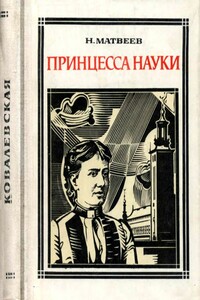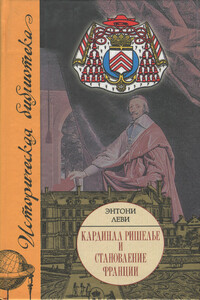Через пять дней, десятого февраля, было торжественно отпраздновано четырнадцатилетие герцога Голштинского. Тётя надела на него Андреевскую ленту со звездою — высший российский орден, но сам он всё ещё должен был именоваться не великим князем, а королевским высочеством до принятия им православия и объявления его наследником российского престола.
Всё это ждало герцога позже, в Москве, куда уже вовсю готовился к переезду весь двор. Елизавета Петровна не хотела медлить и в древней русской столице на двадцать пятое апреля назначила свою коронацию.
По поводу коронации был объявлен длинный лист пожалований и наград. Среди тех, кто их удостоился, на одном из первых мест оказался Алексей Разумовский. Бывший уже действительным камергером и недавно назначенный поручиком лейб-кампании, что соответствовало чину генерал-лейтенанта в армии, он сделан был обер-егермейстером двора и получил Андреевский орден. Действительные камергеры и лейб-кампании поручики братья Шуваловы и Михаил Воронцов, также удостоенные этих званий в первый же день восшествия на престол Елизаветы Петровны, получили ордена Александра Невского. В графское достоинство были возведены Гендриковы и Ефимовские.
Последнему пожалованию новая императрица придавала особое значение. Это были её самые близкие, кровные родственники по матери, ещё совсем недавно бывшие самыми бедными крестьянами и пребывавшие в абсолютной безвестности.
Многим было ведомо, что императрица Екатерина Первая, ещё до того, как стала женою Великого Петра, подобрана была в качестве пленницы или, можно сказать, трофея в неприятельском шведском обозе. Была она прачкою, прислугою, хотя каждого, кто обращал на неё внимание, поражала своею статью и красотой. Эти качества да ещё природный ум покорили русского царя, и он связал с нею свою жизнь. Но откуда и кто была она — этими вопросами Пётр долгое время не задавался, да и у самой Екатерины, что получила сие имя взамен природного — Марта, интерес найти своих родственников, можно сказать, никак не проявлялся.
Всё открылось случайно. Однажды, ещё при Петре, какое-то важное лицо, состоящее на царской службе, проезжало через Лифляндию. То ли дорога была уж очень плоха, то ли возница ехал лениво, но царёв посланец стал возницу того колотить в спину: — Ты, чухонское отродье, нехристь, не можешь разве гнать своих кляч шибче? Гляди мне, мигом вытрясу из тебя всю душу, коли не послушаешься моих приказаний!
Хозяин лошади, как ни боялся палки и кулаков петербургского сановника, всё же решил возразить:
— Если бы ты, барин, знал, какая у меня в Петербурге родня, то даже пальцем не посмел меня тронуть.
— Ишь ты как заговорил! Что же за важная родня у тебя в нашей столице? Небось брат или дядька служит в гвардии капралом? Так, что ли?
— Родная сестра моя — русская императрица, — был ответ крестьянина, отчего приезжий разинул рот и долго не мог вымолвить ни слова.
Когда по возвращении царёва посланца Пётр направил в лифляндские места надёжных людей, оказалось, что мужик нисколечко не наврал. У русской императрицы было два родных брата — Фёдор и Карл. Кто-то говорил, что фамилия у них была как бы такая: Скавронки. На польском языке слово это обозначает жаворонков.
Братьев привезли во дворец, представили царице и царю. Пётр спросил, где бы они отныне хотели жить.
— Домой, государь, отпусти нас, — ответили они. — Мы к городам и дворцам не привыкшие.
Их отпустили, но велено было содержать их в родных местах, ни в чём им не отказывая.
Только вступив на трон, Екатерина перевезла родню к себе. Фёдор, что признался когда-то на дороге в своём высоком родстве, к тому времени помер. У другого брата, Карла, оказался сын Мартин. Вот этому потомству императрица дала фамилию Скавронских и возвела её в графское достоинство.
Но кроме братьев в семье были и сёстры Екатерины. Одна значилась за мужем Генрихом, другая — за каким-то, тоже низкого происхождения, Ефимом. И они получили достойные имена — Гендриковские и Ефимовские — и тоже были доставлены в Петербург. Но только теперь наследники и этих фамилий, уже по воле Елизаветы Петровны, также стали графами Российской империи.