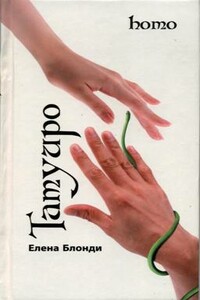Расставив на полу ступку, раковину с круглым краем, мех с водой и рваное тряпьё, склонился к неподвижному лицу и отпрянул, когда шевельнулась бледная рука. Успел отодвинуть ступку, но зато вспомнил, что надо сделать ещё. Отполз, косясь, подтащил к себе моток мягкой веревки. Еле касаясь, затаивая дыхание, обмотал ноги в щиколотках, притянул к основанию столба. Руки прижал к туловищу и сделал несколько витков, подсовывая веревку под голову и плечи. И наконец накинул на шею толстую петлю из сложенного в несколько раз куска веревки, затянул на другом столбе, следя, чтоб не пережать горло. Главное, чтоб не билась сильно.
Стоя на коленях, снова наклонился к лицу. От кожи девушки шёл запах моря и почему-то горелой травы и ещё — странный запах, которого тут не было никогда. Она дышала неглубоко и ровно, хватая воздух полуоткрытыми губами и тут же отпуская его обратно. Мастер приготовил деревянную чурочку. Прижал лоб рукой. Сунул деревяшку сбоку в приоткрытый рот, повёл чуть глубже, чтоб не вытолкнула языком. Зачерпнул ложкой ягодного месива и протолкнул в рот, поглубже, прямо в глотку. Вынул, схватил мех и сунул в рот узкий вытянутый конец с отверстием, надавил на бока. Вода выплеснулась в горло и одновременно раскрылись глаза, коричневые, испуганные и непонимающие.
— Сейчас, — бормотал он, а руки делали всё быстро, потому что если не проглотит сейчас, то мёртвая глотка забудет, как глотать, на день или больше, и тогда уже ничего не сделать. За спиной услышал, как задёргались ноги и задрожал столб с привязанной к нему веревкой. Соскреб остатки в ступке и снова сунул в рот, выдернул ложку, протолкнул мех и надавил. Услышал, как трудно глотнула, перед тем как закашляться, забившись в веревках, и выдохнул с облегчением. Надавил на мех ещё, заставив её проглотить воду. Скомканной тряпкой вытер пурпурную слюну в уголке рта, растёр её по рукам и бёдрам девушки. Можно бы и на плечо, но мало ягод, чтоб не чувствовала, потому мазал там, где свободнее веревки, и почти сразу ноги и руки её стали каменеть. Столб не качался. Последний раз её тело выгнулось дугой, удерживаясь на затылке и пятках, и упало, как туша маленького оленя с плеча охотника. Только глаза — живые, огромные. И быстрое дыхание, почти не поднимающее грудь.
Он отвалился от тела, прижав спину к столбу, застонал от облегчения, не отводя глаз. Всё сделал, как надо. Только забыл сказать слова, дурак-дурак! Но Большой Охотник и Большая Мать простят его: он ведь делает доброе, хорошее дело. Скажет сейчас, ведь ещё не конец и помощь ему понадобится.
— Большая Мать, ты не спишь, даже когда глаз твой закрыт облаками, потому что ты смотришь за своими детьми. Присмотри за тем, что я делаю, отведи дрожь в руках, туман в голове, песок в глазах. Спасибо тебе, Большая Мать.
— Большой Охотник, ты разбросал по небу огни и сам спрятался в засаде, в тени облаков, но ты всегда с нами, потому у нас есть то, что нужно людям. Присмотри за тем, что я делаю, отведи от меня страхи и глупость, неумение и лень. Спасибо тебе, Большой Охотник…
Раскачивался, поднимая коричневые ладони, встряхивал космами волос, и глаза девушки следили за ним, а тело лежало неподвижно, как мёртвая колода, вынесенная рекой на песок.
— Ну, вот, — закончив молитву, развязал веревки и укрыл её по самую шею циновкой. — Большие присмотрят за нами. Теперь я сделаю так, чтоб никто из малых людей не помешал нам.
Бледный свет пришедшего дня освещал хижину, и мастер неверными от волнения шагами направился в дальний угол, разгрёб сваленный хлам. Достал огромную раковину с отбитым краем, выпрямился и повертел в руках. Мягкие переливы света ласкали глаз. Положил на пол и гладким камнем ударил по нежным изгибам. Коротко прозвенев, раковина обрушилась веером ярких кусков, над ними встали маленькие дрожащие радуги. Морщась, мастер собрал осколки в деревянную широкую чашу, укутал куском ткани и пошёл к двери. Оглянулся на лежащую:
— Я долго хранил её. Теперь пригодилась.
Выйдя, прищурился на неяркий свет под облачной пеленой. Держа сверток одной рукой, набрал в другую белой глины из выемки на краю тропы и намалевал на двери охранный знак в виде раскрытого глаза, чтоб никто без него не вошёл в хижину.