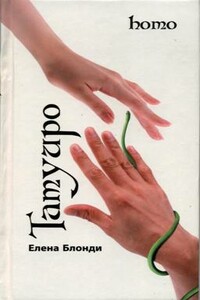В школьной библиотеке только Тургенев и Толстой. А Ладе хотелось интересного. И не про любовь, а вот приключений всяких. У брата друг жил в городе, брат ездил в гости — на дискотеку сходить, с городскими. Возвращался и, на неделю, на две, привозил книги. Когда Лада спросила, почему старые такие, страницы все летят из них, сказал «на даче у Генки». Ещё поспрашивав, Лада поняла, что Генка из шкафа, где стоят с золотыми корешками, не даёт, а трёпаные — пожалуйста. Но с возвратом, потому что надеется продать на барахолке.
Читать приходилось быстро и часто — с середины. Или — сесть рядом с братом и, пока он читает страницу, голову наклонить и читать боком. Были книги почти все сплошь о путешествиях. Даже и странно, не о старых временах, а о том, как сейчас на яхтах и лодках в одиночку океан пересекают, как Тур Хейердал разбил часы о камень и стал жить наподобие древнего человека, вместе с молодой и красивой женой, на острове, а один японец на собачьей упряжке несколько раз путешествовал по крайнему северу, так и пропал где-то в Канаде. Еще про Африку были книжки и про остров Пасхи большой альбом со страшными статуэтками.
Вот в какой книге, не запомнилось, прочитала о том, что пытка была такая — вырезали на веках оконца и с тех пор человек не мог закрыть глаза для сна. Всё видел. Приходилось поверх закрытых глаз набрасывать тряпицу. Лада плакала ночами от жалости к людям, которые умерли давно.
…Лёжа на жёстком полу, она смотрела на звёзды в дыре крыши и была к ним равнодушна. А вот красный цветок огня перед глазами — раскрывался, стягивался и снова раскрывался. Огонь, что сделала она, когда извернулась в полёте, кинула вниз свою ненависть, и та взорвалась внизу. Не жалко, таких, наверное, и надо убивать, но огонь раскрывается перед глазами постоянно, застит звёзды и лохматые листья. И закрывать глаза бесполезно.
За правым плечом кто-то шевелился и вздыхал. Подумала вязко, что лежит на полу, да, на полу. И тут же забыла об этом. Плечо ныло, казалось, кто-то царапал его маленькими когтями, но повернуться и посмотреть не получилось. Два раза не получилось, и она попытки оставила. Потом. Плохо то, что хочется пить, а подбородок держит что-то, и руки лежат, не сдвинуть. Можно постонать, если тот, что шевелится, услышит, вдруг сжалится, даст воды.
…Что она там думала, про тетку Евдусю? Кажется, всё. Нет. Когда брат приносил книжки, Ладе было… — восемь лет было. И Евдусю они дразнили, дурочки. Собирались у Таньки, у той отдельная комната, с коврами и полки с куклами. Наперебой, поджимая губы, как взрослые, библиотекаршу кляли за пьянство и что засыпает в фанерной конуре, а ну — пожару наделает? И только через пятнадцать лет, когда давно уже в городе жила, бежала по улице, чуть не летела в осеннем тонком воздухе, и дышалось ей так хорошо, будто ела холодное яблоко, споткнулась на бегу. Сверху хлопнуло, как ладонью: Господи, какая же она несчастная была, Евдокия, молодая жена непутевого Димки! Всего-то полгода и лежали в постели вместе. Никого не захотела кроме него, за то и травили.
Утром позвонила брату, он рассказал, — Евдуся месяц назад умерла. Не спалила библиотеку, нет. Пошла пьяная на реку и утонула. Лада молчала потом ещё два дня. Свекровь плечами пожимала и брови подкидывала накрашенные. Липыч был в рейсе, и поговорить не с кем. Да и с Липычем не поговоришь, он, конечно, был хоть куда муж, но как начнёшь о чём-то кроме ужина или телевизора, глаза у него становились стеклянные. Не обрывал, — только ждал терпеливо, когда она закончит «пургу нести».
Звёзды в дыре становились маленькими и невидными. Шла на небо серость, и через дыру сеял мелкий дождик, падал на лицо. Она слизывала капли с губ, такие крошечные, что язык сразу снова шершавел, и радовалась, что язык шевелится.
…Перед тем, как стал распускаться перед глазами огненный круг, было что-то. С ней было. Представлялась раскрытая осевшая сумка с цветным тряпьем, а в тряпье — острые железки и обломки камней. Можно залезть рукой, но страшно пораниться. Потому Лада отворачивалась от воспоминаний о недавнем, лежала, почему-то послушно не шевеля ногами и руками. И гнала мысли далеко в прошлое, туда, где ещё не было степи, в которой сторожка, и в ней…