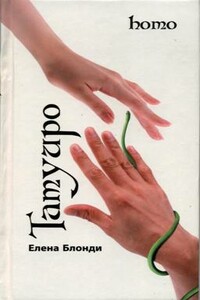Мастер отогнал мелкие мысли, подошёл, присев на корточки, откинул край циновки. И отвернулся, прикрывая рукой глаза, как от блеска лесного пожара. Коричневый прозрачный огонь хлестнул по лицу, и в нём, во взгляде беспомощно лежащей, — смертельный ужас и непонимание переплавились в такую силу, что невозможно было смотреть. Нащупав рукой край, он снова набросил ткань на лицо.
— Нельзя, так нельзя, — стал проговаривать хрипло, зная, что не поймёт, она ведь пришла с водой в реку из моря, а там живут совсем другие люди и язык у них другой.
— Не смотри так, уйми сердце, иначе наделаешь бед. Я не сделаю плохого!
Развернув сбоку ткань, положил холодную неживую руку к себе на колени и стал гладить худые пальцы.
— Ты пришла из реки, почти мёртвая. Я дам тебе еду, огонь в моём доме согреет тебя. Захочешь, уйдёшь. Но знак на плече не нужен. Если люди увидят его, тебя отдадут Владыкам. А тебе туда нельзя.
Он сглотнул, вспоминая.
— Таких, как ты, там… Нет-нет, нельзя тебе туда. И не спрячешься, ты слаба и не сумеешь убежать. Боги привели меня на берег, чтобы помочь тебе. И я помогу. А еще Малити нашел раковину. Это знак! Когда день склонится к вечеру, всё будет уже сделано и ягоды в твоей крови заснут. Завтра, с утром, ты заговоришь и сможешь сесть, а потом ходить. А когда рассыплется третий знак, мы выйдем на свет, и я расскажу всем, что тебя мне прислал Западный ветер. Видишь, он проломил крышу? Оттуда ты пришла.
Он взмахнул рукой, показывая на пролом в кровле, и её рука со стуком упала на пол.
— Не бойся. Боль придёт и уйдёт. Ты будешь жить. И будет тебе покой и моя забота. Столько, сколько захочешь сама.
Он снова чуть-чуть откинул ткань с лица и перевёл дыхание. Голос его немного притушил силу её взгляда. И хорошо. С такой силой мало ли что может случиться. Зашевелится земля, или река прыгнет со своего ложа и смоет деревню напрочь.
Надо её уложить поудобнее. И если будет она снова глядеть так, то ткань прикроет лицо, пока он точит нож и делает то, что решил.
Не вставая с колен, потянулся за комком мягкой сухой травы, намочил её в скорлупе ореха и, стащив циновку, протёр белое тело от налипшего песка. Сморщился, увидев под бёдрами мокрое пятно, приподнял и подоткнул под неё сухую ткань, чтоб не замёрзла. Укрыл снова, всю, кроме плеча с ползущей по нему змеёй. И, устроив на колене камень, стал точить нож. Следил за её глазами, и, когда при первых звуках лезвия по камню они снова полыхнули ужасом, накинул на лицо ткань. И стал говорить. Точил и рассказывал ей о том, как утонула его мать, а отца убили в лесу дикие кошки. И как он жил в чужих домах, дрался с другими детьми, когда над ним смеялись, а потом ушёл, еще до обряда. Стал строить хижину себе, вот эту самую, спал под столбами крыльца, как собака, которую бросили в стойбище. Чужие матери приносили ему еду. А на обряд он пришёл сам, не кричал и заслужил похвалу старого вождя. Получил копье с каменным наконечником. Пошёл на охоту с другими и радовался, что его глаза самые зоркие, видят следы даже на ветках и листьях, где лесные кошки оставляют золотые шерстинки. Ещё радовался, что отомстит за отца, убьёт их всех, прямо у логова, куда вывел других мальчишек. Но у логова, на рассвете, увидел первым, как кошка-мать лежит, выставив розовые соски на широком животе, и мурлычет, наблюдая за игрой котят. Встал на опушке и хотел не пустить остальных. Но его побили, отобрали копье и изгнали из деревни. Вечером сидел у своей хижины, один, смотрел на костры в деревне и слушал, как гремят барабаны, пищат флейты, — люди радовались добыче, и на столбах у домов уже висели распяленные золотые шкуры. Он хотел уйти, совсем. Но остался, потому что из деревни к нему пришла Онна, совсем ещё девочка тогда, принесла калебас молока и сидела рядом на корточках, вертя на руке грубый деревянный браслет. Тогда он решил — уйдет, но сначала сделает ей самый красивый браслет в деревне. А когда сделал и подарил, она так радовалась, привела подружек. Сделал и им. И старый вождь сказал тогда, что он, Акут, не мужчина, потому что не хочет охотиться, но и не женщина. Он — мастер. И велел оставить его в покое. Это его слова повторил Мененес о том, что такие нужны. И он остался. Один в хижине, которую построил сам, когда ещё не росла у него борода и волосы на груди.