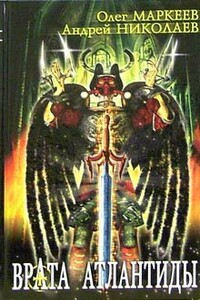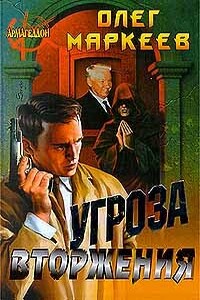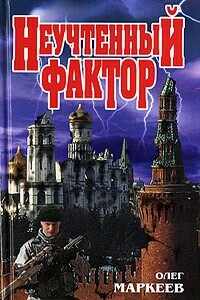Жаркий порыв прокатился по переулку.
Рэдерик, несмотря на то, что ветер разметал его волосы, швырнув на лицо, не обратил никакого внимания на взрыв.
Он сверлил взглядом глаза Корсакова.
— Имение Белозерских! — как команду бросил Рэдерик.
«Мария? Она-то тут причем?!» — не успел выкрикнуть Корсаков.
Рэдерик угрожающе взмахнул кнутом. Сталь вспорола воздух.
Корсаков, вжав голову в плечи, отскочил.
И, не дожидаясь удара, что было сил бросился прочь.
От Икши до Яхромы электричка следовала без остановки.
Корсаков выбрал этот народный вид транспорта по двум соображениям: масса случайных свидетелей и скорость. Рассудил, что остановить на шоссе машину и до минимума сократить его земные дни могла даже не особо крутая банда, а уж те бригады, что схлестнулись на Бронной, сделают свое черное дело быстро и следов не оставят.
А на счет скорости, так и думать не надо: на рельсах пробок не бывает, а на Кольцевой и Дмитровском, наверняка, стоят заторы на десятки километров в обе стороны. В изобилии народа, набившегося в электричку, был еще один положительный момент. То самое «одиночество на публике», когда, хотя и в тесноте, до тебя нет никому дела.
Корсаков забился в угол, прислонился плечом к окну и даже умудрился задремать.
Из сна вытащил лязг металла над самым ухом.
Корсаков распахнул глаза и уставился на то, что со сна показалось ему средневековым орудием пыток. Пальцы с красным лаком на неаккуратных ногтях щелкнули устрашающего вида клещами.
— Мужчина, ваш билет?
— Что?
— Гражданин, ваш билет?!
Корсаков зашарил по карманам.
Контролерша, деревенская тетка в распахнутом форменной кителе, терпеливо ждала, обдувая взмокшее лицо.
— Гражданин, пить надо меньше! — с бабьим подвыванием, вдруг выдала она.
— Причем тут водка? — возмутился Корсаков.
— А при том! — Тетка ухватилась за повод сорвать накопившуюся злобу. — Нажрутся и едут без билета.
Корсаков нащупал в кармане бумажный квиток.
— Вот билет! Только успокойтесь, пожалуйста.
Тетка придирчиво осмотрела билет. С явным сожалением лязгнула компостером.
Она почему-то не отходила от Корсакова. Какая-то искра проскочила между ними, и теперь тетка смотрела на него болючим материнским взглядом. Словно был ей этот помятый и растрепанный сорокалетний мужик родным сыном, что сбежал в мясорубку Большого города, подальше от отупляющего скотства и пьяной тоски родного Завяляжска или Погорелок; только выплюнула его столица, изжевав и обсосав до последней капли жизни, как сотни тысяч до него; и теперь мотаться ему в электричках туда да обратно, то пьяному, то трезво злому, мотаться до конца века: до ножа под ребра, до бутылки по голове или до последнего глотка паленой водки, от которой заснет гробовым сном на полпути между тем, что манило, и тем, что было суждено.
Корсаков разглядывал одутловатое лицо женщины, на котором навсегда отпечатались осатанелое долготерпие и иступленная надежда на капельку счастья, смотрел на изможденные и увядшие пальцы, мертвые, как соски на вымени постаревшей коровы, на глубоко врезавшееся тонкое свадебное колечко, потускневшее и траченное временем, на скупые искорки фионита в дешевых сережках, на седую паклю волос и мученическую складку в уголках губ, смотрел и чувствовал, что сердце готово разорваться в груди.
Это была та самая Богиня-Мать, хранительница жизни и очага, к груди которой припадают в моменты слабости и на коленях которой находят вечный покой усталые странники. Это она купает детей и омывает мертвых. Это ее имя шепчут в горячечном бреду и в предсмертном холоде. Это ее слезы смывают все грехи сыновей, это ее сердце способно вместить всю боль мира. Другой Богини под серым небом его родины не найти. Только такая и есть.
«Мама, ты же знала, что Бог проиграл Люциферу? — чуть не вырвалось у Корсакова. — Почему же ты нам ничего не сказала? Зачем мы мучаемся?»
Контролерша, словно угадав его мысли, шумно вздохнула и отвела глаза. Сунула ему в руку билет и, раздвигая телом стоявших в проходе, двинулась по вагону дальше.
Корсаков отвернулся в окну. Уже проехали платформу «Турист», до Яхромы оставалось совсем немного.