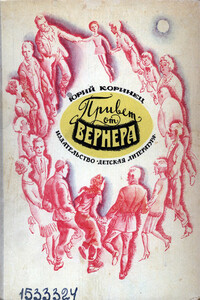— Пойдём к столу, — сказал дядя. — Мы ждали только тебя. Сегодня я уезжаю…
Я чуть не выронил от неожиданности винтовку.
— Куда? — спросил я, совсем позабыв, что дядя не любил, когда его спрашивали «куда».
— Не закудыкивай дорогу! — засмеялся дядя. — Не закудыкивай!
— Надолго?
— Надолго. Может быть, очень надолго…
— А как же охота? — Я совсем растерялся.
Я быстро-быстро заморгал глазами. Дядя обнял меня за плечи.
— Товарищи! — крикнул он. — Идите к столу, а мы с Мишей сейчас! Пойдём, — сказал он мне, — нам надо поговорить…
Мы прошли с дядей в самый дальний угол сада, туда, где в кустах сирени, под смолистой разлапистой елью, стояла узкая некрашеная скамейка. Вся земля вокруг была усыпана еловыми иглами, ещё прошлогодними, и шишками. Здесь было наше местечко. Здесь мы часами беседовали с дядей. С тех пор как я помню себя, я помню эту скамейку, потому что много лет подряд мы жили на этой даче.
Мы сели на скамейку. Чанг тоже пришёл — он сел подле дяди и уткнул ему морду в колени.
Я посмотрел на дядю: он был очень серьёзным.
— Ты знаешь, что происходит в Испании?
Я кивнул.
— Я должен сообщить тебе один секрет: я еду в Испанию…
У меня дух захватило от этих слов.
— Драться с фашистами?
— Драться с фашистами.
— А я?
— А ты будешь здесь. С мамой. С папой. И с бабушкой.
— Я тоже хочу в Испанию! — крикнул я.
— Доннерветтер! — сказал дядя. — Слушай меня! — Он сказал это очень значительно. — Слушай меня внимательно: об этом никто не должен знать! Никто! Я доверяю тебе эту тайну, потому что верю в тебя. Ты уже взрослый. Я знаю, что ты никому не скажешь. Так надо. Это приказ!
Мы помолчали.
— А мама знает?
— Знает, — сказал дядя. — И папа знает. И бабушка. И мои друзья, старые большевики, которые приехали меня провожать. Все они знают, но делают вид, что не знают. И ты будешь делать вид, что ничего не знаешь. Как будто я на курорте… Ясно?
— Ясно! — сказал я.
— Повторите приказ!
— Я знаю, что вы едете на курорт! — сказал я.
— Вот именно! — сказал дядя.
Он обнял меня и поцеловал.
— Ты не горюй! — сказал он. — Твоё время придёт! Придёт ещё твоё время. А пока ещё время моё. Я ещё не расквитался со всей этой сволочью. А ты учись. Математике. И стрелять учись. И рисуй. И заботься о Чанге — я оставляю его тебе. — Он погладил Чанга по голове.
— А как же Север? — спросил я тихо. — Мне скоро тринадцать.
— Когда я вернусь… — сказал дядя. — Когда я вернусь, мы поедем на Север. Мы ещё с тобой поохотимся!
— Ты уж вернись! — сказал я. — Поскорей.
— Вернусь! — сказал дядя.
Он встал и обнял меня за плечи.
Мы пошли, обнявшись, к светящейся террасе через огромный вечерний сад. Уже стало темно. Далеко на западе догорала заря. Там всё было красное-красное, такое зловещее. Мы шли с дядей медленно, крепко обнявшись, шли медленно-медленно, и вдруг дядя запел, очень тихо, как будто не пел, а просто так говорил:
— «Там, вдали за рекой, зажигались огни, в небе ясном заря догорала. Сотня юных бойцов из будённовских войск на разведку в поля поскакала…»
Я тоже стал подпевать дяде:
— «Они ехали долго в ночной тишине по широкой украинской степи, вдруг вдали у реки засверкали штыки — это белогвардейские цепи. И без страха отряд поскакал на врага, завязалась жестокая битва. И боец молодой вдруг поник головой — комсомольское сердце разбито…»
Я шёл рядом с дядей и тихонько подпевал, и в носу у меня немножко щипало, потому что хотелось плакать.
— «Он упал возле ног вороного коня и закрыл свои карие очи: «Ты, конёк вороной, передай, дорогой, что я честно погиб за рабочих!»
Я вспомнил, как плакал от этой песни раньше, когда был совсем маленький. Мне очень жалко было молодого бойца. Я всё волновался — сумеет ли конь передать, что его хозяин честно погиб за рабочих? И как он это передаст?
А дядя всё успокаивал меня, объяснял, что вороной непременно передаст, потому что это не простой конь, а учёный… А теперь молодой боец стал старым бойцом, потому что он вовсе не был тогда убит, он был просто ранен, и теперь, когда он стал старым и мудрым, он опять отправляется в бой… И плакать нельзя, потому что я уже взрослый…
— «Там, вдали, за рекой, уж погасли огни, в небе ясном заря разгоралась. Капли крови густой из груди молодой на зелёную траву сбегали…»