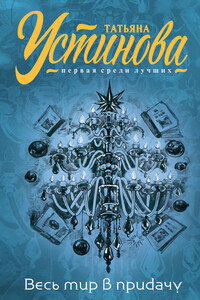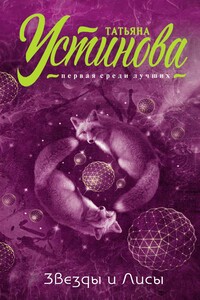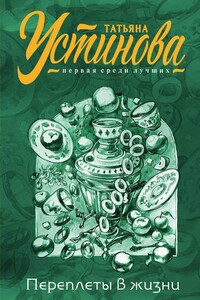– Вы говорите, сигнализация несколько раз срабатывала? – подходя, спросил Волков у Маши.
– Вроде да.
– Вы сами слышали?
– Вроде нет.
Волков посмотрел на нее.
– Это что значит? Слышали, но не вы? Вы, но не слышали?
– Нет, нет, Павел Николаевич, я не слышала, то есть, может, и слышала, но не помню! Мне потом кто-то из ребят сказал, что она весь день пищала, его сигнализация!
– А кто сказал, не помните?
Маша честно подумала и ответила, что не помнит.
– А... зачем вы все это проделываете, Павел Николаевич?
Волков пожал плечами и придержал перед Машей тяжелую входную дверь.
– Сам не знаю, – признался он. – Мне все как-то не верится, что Коля погиб так... глупо.
Маша покивала горестно, Волков пропустил ее вперед, к лифту, а сам сунулся в окошечко, за которым помещался охранник, бритый молодой и сонный детина. Их было несколько, и все одинаково бритые, молодые и сонные.
Волков их все время жалел, честное слово, жалел!..
Вот сидят они за стеклом, провожают взглядами входящих. Когда не провожают, играют под столом на телефонных аппаратах в игру под названием «Большие гонки», а может, «Джунгли». Телефоны они держат так, чтобы с этой стороны стекла было не видно, чем именно они заняты в так называемое «рабочее время». У самого продвинутого, умеющего читать, в верхнем ящике стола, застеленном непременной газетой, лежит захватанный детектив, который он читает, кося глазами и прикрывая ящик пузом так, чтобы тоже было не видно.
В их работе нет никакого смысла, ибо в шесть часов их отпускают по домам, и стеклянная будочка пустеет. «Отразить нападение» они не смогут, потому что слишком неповоротливы, тяжеловесны и несообразительны, да и нападать вряд ли кто-то захочет.
В их жизни, казалось Волкову, тоже нет и никогда не будет смысла, потому что, посидев до шести на стуле в будочке на работе, они пересаживаются на поролоновые диваны дома и уставляются в телевизоры, как давеча таращились в «Джунгли» или «Большие гонки».
Самое сильное переживание – футбол по шестому каналу или с тещей поругаться.
Самое жгучее желание – свалить от супруги на рыбалку.
Самое лучшее развлечение – пивко охлажденное, да водочка, да под соленый огурчик и черный хлебушек в гараже у Сереги или у Санька.
И все. Больше никогда и ничего. Больше никуда и ниоткуда. Больше никак – не так и не сяк.
Жизнь уйдет, а они, эти из будочки, даже не догадаются о том, что она была! Не успеют проснуться, умыться, оглянуться по сторонам – может, есть все-таки что-то интересное, жгучее, острое, трагичное, веселое, странное, забавное, любовное!
«Впрочем, – остановил себя Волков, – мало кто знает, зачем живет. Или уж какие-нибудь заумные мудрецы, или, наоборот, дураки.
Вот ты, Волков, знаешь, зачем живешь?..
А Коля Сиротин зачем жил? И зачем погиб?..»
Волков, сунувшись в окошечко к охраннику, оказался очень близко к нему, так что тот даже подался назад.
– Здрасте, – сказал охранник растерянно. В желтых заскорузлых пальцах он крутил телефон, и несло от него перегаром, смешанным с мятным вкусом жвачки «белоснежность и буйство свежести». Буйством несло особенно.
– Камеру так и не исправили? – душевно спросил Волков.
Охранник собрал на лбу складки, и уши у него немного покраснели.
– Чего исправили?
– Камеру починили, спрашиваю? Камеру наблюдения, – пояснил Волков, стараясь быть терпеливым и жалеть охранника, у которого жизнь проходит, а он даже не замечает. – Камера у нас не работала, которая на улицу смотрит. Починили?
Охранник распустил складки на лбу и посмотрел на мониторы, подрагивающие черно-белой картинкой перед самым его носом. Три монитора показывали немое кино, а четвертый был темен и пуст.
– Нет, – сообщил охранник Волкову. – Так и не работает.
Волков кивнул и вылез из окошечка.
Если бы камера работала, можно было бы посмотреть, кто из его сотрудников выходил вчера на улицу под вечер, перед самым происшествием. Впрочем, Волков не знал в точности, пишет камера или так, для «форсу» поставлена. Может, она и не помогла бы!..
– Павел Николаевич!
– А?
Теперь уже охранник до пояса высунулся из будочки – половина его была на воле, а половина за стеклом, синяя форменная рубаха задралась, и мятые брюки лоснились.