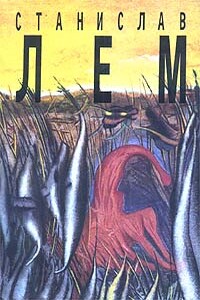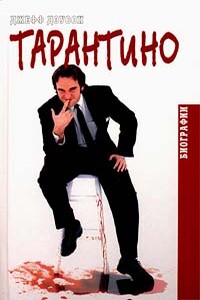— Ищет, — смеясь, объявил он.
Изумляясь, я смотрел на Бережкова. В течение последних двух-трех минут проявились разные грани его личности. Только что в нем всколыхнулись поистине высокие чувства, но тотчас же, в разговоре с Гусиным, появился совсем другой Бережков: Бережков-хитрец, Бережков-дока. У нас на глазах, как по нотам, он разыграл своего «Гусю». Нельзя было не улыбнуться, увидев, как искренне расстроился конструктор прославленных моторов, узнав, что Гусин не разыскал поэмы.
— Припомни хоть что-нибудь, — потребовал Бережков. — Неужели ничего не осталось в памяти?
Тут же он, просияв, сообщил нам:
— О себе-то «Гусенька» запомнил!
Гусин, видимо, стал по памяти приводить отрывок. Повторяя за ним, Бережков со вкусом прочел строфы, которые рассказывали, как Гусин демонстрировал тормоза своей конструкции.
— Я начинаю! — крикнул Гусин и на педали враз нажал.
Хотя напор был очень силен, но тормоз доску не прижал.
— Ах, не прижал? Ну, и не надо, — он равнодушно нам сказал.
Так я нажму вторично, слабо, — и из последних сил нажал.
Катил с него пот крупным градом. «Компас» от хохота стонал,
А тормоз, как под вражьим флагом, недвижно-мертвенно стоял.
— Славно? — спросил Бережков присутствующих. Затем он вновь заговорил в трубку: — Как? Как ты сказал? Неужели записан? Друзья! — обернулся он к нам. — Исключительная удача! Гусину попался один мой рассказец. Вмонтируем-ка его в нашу ночь рассказов. «Гуся», напомни мне начало…
Слушая, Бережков опять не удержался от смеха.
— Ладно, ложись спать, — милостиво разрешил он Гусину. — Дальше уже помню. Еще раз извини, дорогой!
Положив трубку, Бережков прошелся по комнате.
— Приступаю без всяких введений, — объявил он. — Согласно свидетельству милейшего «Гуси», данное произведение называется «Пергамент». Автор Бережков. Дата — тысяча девятьсот девятнадцать… Итак…
«ПЕРГАМЕНТ»
(Рассказ)
Кто из нас, друзья, не мечтал о необычайных приключениях, о какой-нибудь неожиданной встрече или удивительной случайности?
Но вместо необыкновенных приключений приходилось работать и работать. Каждый день с самого раннего утра работа забирала меня с силой зубчатых колес и отпускала только к вечеру. В нашем славном «Компасе» я нередко засиживался до полуночи и возвращался домой очень поздно, когда единственным звуком в пустынных неосвещенных переулках было таканье моей мотоциклетки.
Мой путь пролегал через Сухаревскую площадь, через знаменитую толкучку «Сухаревку». По субботам я освобождался раньше и проезжал по Москве засветло, еще заставая торг на площади. Зрелище огромнейшего толкучего рынка было для меня настолько притягательным, что я всякий раз останавливал мотоциклетку и не мог удержаться от искушения потолкаться, прицениться, а иногда и купить по дешевке какую-нибудь красивую старинную вещицу.
Как вы знаете, на службе мы получали пайки, а тут, на Сухаревке, было царство вольной торговли. Наряду с хлебом, крупой, картошкой, махоркой, салом, — причем за фунт сала приходилось выкладывать чуть ли не полумесячное жалованье, — продавались невероятнейшие вещи: корсеты, фраки, инженерные значки, медицинские инструменты, парижские духи, певчие птицы, табакерки, шкатулки с секретами и тайниками, ковры, меха, скульптура, живопись, термометры, микрометры и даже, вообразите, моторы разных марок. Был случай, когда на толкучке мне шепнули: «Есть золото». Разыграв заинтересованность, я смог понаблюдать, как там расходилось золото. Оно по-прежнему было в цене. За маленький золотой десятирублевик выкладывали какие-то огромнейшие суммы в так называемых дензнаках.
В общем, на Сухаревке в любую минуту можно было набрести на неожиданность.
Однажды осенью, в субботу, после получки, я возвращался из «Компаса» домой и, дав волю воображению, предвкушал, что куплю на Сухаревке что-нибудь интересное. Но я опоздал: часы на Сухаревской башне показывали больше шести, торговля уже кончилась.
Смеркалось, моросил дождь.
Медленно проезжая по обезлюдевшей площади, я заметил женщину, которая одиноко стояла под дождем. Рукой она придерживала большую золоченую раму, поставленную прямо на землю. Я подъехал, включил фару, присмотрелся и был изумлен искуснейшей резьбой. Но еще поразительнее оказалась картина. В мрачном подземелье, выложенном грубо отесанными каменными плитами, опустившись на колени и подвернув рукава дорогого халата, старик копал яму. Он ядовито посмеивался. Его сатанинская усмешка показалась мне столь живой, столь выразительной, что я мгновенно соблазнился картиной.