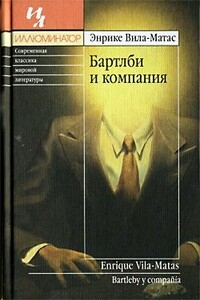Когда я почувствовал себя на вершине блаженства, когда мысли мои привели меня в экстаз, когда я почти опорожнил мочевой пузырь, до моих ушей донеслось эхо далекого разговора, который в это самое время происходил во внутреннем дворе. Совершенно машинально, подчиняясь какой-то почти извращенческой профессиональной потребности, я замер и прислушался. Неизвестная мне женщина, находясь, судя по всему, на грани отчаяния, жаловалась, что утром у нее сломалась машина; и со смесью бешенства и горькой покорности судьбе она голосом изображала, какие звуки издавал мотор ее автомобиля, сигналя о поломке. Подражание звукам мотора, видимо, подействовало на нее успокаивающе, и она заговорила куда ровнее, словно начала осознавать, что с неприятным фактом надо смириться и ничего тут не поделаешь. Ее собеседница – чуть позже я понял, что это ее мать, – пыталась возражать, но слов я не расслышал – тут способности мои оказались бессильны, – хотя, по всей видимости, слова эти ужасно рассердили первую женщину, ту, что недавно изображала фырчание неисправного мотора. От только что обретенного спокойствия не осталось и следа.
– Не говори глупостей, мама. Тебе главное – поспорить, главное – сказать что-нибудь наперекор.
Опять прошелестели какие-то неразборчивые слова, в ответ – новый взрыв новомодной городской агрессивности.
– Ну, хватит молоть чепуху, мама. У меня нет времени на пустые споры. Мне нужна машина – и точка, слышишь? Мне нужна машина! Машины теперь есть у всех. Да, конечно, существуют автобусы и метро, а можно и пешком ходить… Но мне, слышишь, мне нужна машина. Сегодня же, и обязательно. Нужна. Понимаешь?
Снова неразборчивый ответ матери.
– Что? Ты с ума сошла? Да теперь у всех есть машины!
Я завершил наконец процесс мочеиспускания, в моих ушах, перекатываясь, громыхало слово «машина», и больше я его слышать не желал. Я захлопнул окно, выходившее во внутренний двор, потом причесался, бросил последний взгляд на свой ненавистный нос, из-за которого меня прозвали Сирано, и двинулся к выходу. Проходя по коридору, я нажал кнопку автоответчика и услышал совсем короткое послание от Кармины:
– Ни одна женщина на свете не любит тебя так, как я.
Следом послышались тихие всхлипывания.
Еще не успев дойти до дверей, я почему-то замешкался у окна, из которого была видна улица Дурбан. Мной овладело безумное желание взять подзорную трубу и пошпионить за тем, что происходит на территории, принадлежащей с некоторых пор моему роману. Я пошел на поводу у своего каприза и достал-таки подзорную трубу. Приставил глаз к черному резиновому колечку, очень, надо заметить, уютному, и несколько секунд следил за тем, что происходит на улице. Взгляд мой задержался на унылом остреньком носике бедной сеньоры Хулии, которая по-прежнему сидела у дверей своего винного погребка, уставив взор в облака. С каждым днем я все больше уверялся в мысли, что ее муж недавно умер. Затем я направил полет своего взгляда ввысь и с такой жадностью принялся созерцать какого-то щегла, что, когда птичка дернула скромным клювом в мою сторону, я инстинктивно зажмурил глаз.
Итак, я повел свою лекцию на прогулку.
Сперва спустился вниз по лестнице и забрал почту в комнатке консьержа – пачка оказалась солидной. Но, добавлю, это удовольствие мне приходилось испытывать почти ежедневно. Я сунул всю пачку в карман куртки и поздоровался с хромым консьержем, который вяло повторил следом за мной:
– Добрый день!
Едва я очутился на улице, как меня охватило внезапное и очень бодрящее чувство свободы, я ведь избавился от письменного стола и затхлого запаха литературы, а такое освобождение всегда действовало на меня благотворным образом.
Шагая вниз по улице Дурбан, я решил, что вечером, когда придет время рассказывать о моем деде, будет разумнее начать рассказ с того, что этот шпион за таинством евхаристии всегда считался самым здравомыслящим человеком на свете – да, но только до дня ухода на пенсию. Именно в тот день дали о себе знать первые странности и несуразности, и на некий, весьма непродолжительный, период дед перестал быть нормальным и благоразумным человеком, каким считался всю жизнь.