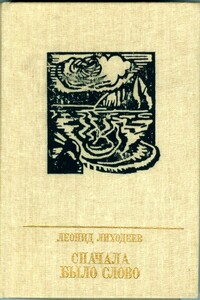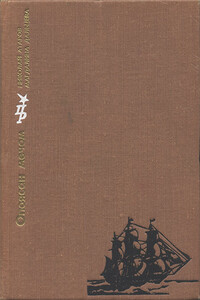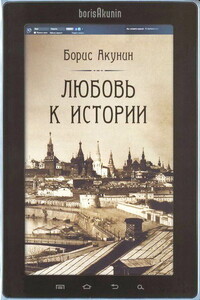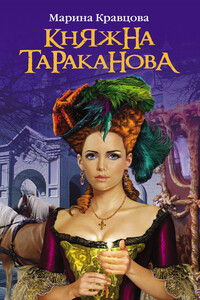Но пленительный образ Эмилии сразу вызывал совсем не элегическое воспоминание об отъезде из Дрездена.
Выпущенный в феврале четырнадцатого года, он попал в первую резервную артиллерийскую бригаду, которая тотчас же отправилась в заграничный поход и вскоре была в Дрездене.
В ту пору князь Репнин был дрезденским генерал-губернатором, а родной дядя Михаил Николаевич Рылеев — комендантом города. Он был так ласков, заботлив, устроил на службу по своему ведомству, заласкал, задарил. Не привыкший к вниманию, Кондратий писал матери восторженные письма о добром дядюшке. А тут еще Эмилия… Он весь искрился тогда в Дрездене, смеялся, шутил, писал сатиры и эпиграммы на всех знакомых и незнакомых в русской колонии и, конечно, вызвал недовольство общее. Важные чины пожаловались генерал-губернатору.
Репнин передал эти жалобы Михаилу Николаевичу и предложил во избежание ссор и неприятных столкновений удалить слишком резвого племянника из города.
Взбешенный дядюшка, задыхаясь, объявил, что увольняет его от занятий, и приказал в двадцать четыре часа убираться из города.
— А если ослушаешься, — кричал он, распаляясь все более, — предам военному суду и расстреляю!
Но не таков он, чтобы испугаться.
— Кому суждено быть повешенным, того не расстреляют! — сказал он и до сих пор доволен своим ответом.
Все это было недавно, а уже быльем поросло. Можно ли грустить в Париже?
В Пале-Рояле он отпраздновал день своего рождения с приятелем и с шампанским. Лакей не переставал удивляться доброму аппетиту русских офицеров, а сам он — удивляться и радоваться, что этот день посчастливилось провести в Париже. Но выйдя из ресторации, он увидел, что прусаки поставили в саду Пале-Рояля караул. Солдаты стали задевать и дразнить проходящих, какой-то обиженный француз закричал, и мгновенно на крик сбежались человек двести его соотечественников. Прусский офицер велел примкнуть штыки и пошел разгонять толпу. Безоружные французы было разбежались, но через минуту их стало еще больше. Пруссак храбрился, но над ним смеялись, толпа росла, шум становился все громче, лавки запирались. Появился патруль парижской национальной гвардии, а вскоре и отряд англичан. Толпа рассеялась, но Рылеев был остановлен речью французского офицера, как будто бы ни к кому не обращенной, но все же задевающей и его.
— Мы сохраняем спокойствие через силу! — гремел француз, — но скоро наше терпение иссякнет. Ваши союзники не щадят нашего достоинства. Но мы французы, у нас есть чувства и честь…
— А я русский, — перебил Рылеев, — и вы напрасно упрекаете меня.
— Я потому и говорю, что вы русский. Вы друг, но союзники ваши — кровопийцы. Им мало всех бедствий Франции. Им мало, что по жребию судьбы мы побеждены. Но еще недавно были и мы победителями и разве позволяли себе надругаться над самым священным? Над честью побежденных!
— Полно, успокойтесь, прошу вас. Мы русские…
Он бормотал бессвязно слова утешения и был совершенно растроган, заметив, что офицер, увенчанный орденами Почетного легиона и святого Людовика, лишен ноги и, пошатываясь, стоит на деревяшке. Они расцеловались. А вокруг уже собралась толпа, дружно поносившая пруссаков.
Вечером он посетил знаменитую гадалку Ленорман, поразившую своей проницательностью Наполеона. Она и ему, безвестному прапорщику артиллерийской бригады, напророчила славу и тяжкие испытания, но почему-то он не очень вслушивался в ее предсказания, завороженный чучелом пестрой совы с распростертыми крылами, глядевшей на него желтыми стеклянными пронзительными глазами. Он даже пропустил мимо ушей осторожное упоминание о насильственной смерти. Тихое журчание французской речи убаюкивало его.
Днем снова и снова бродил по Парижу, дивясь, что ни один король из династии Бурбонов не украсил столицу такими великолепными памятниками, как Наполеон за время двадцатилетнего правления, проведенного к тому же в беспрерывных войнах. Он любовался Вандомской колонной, украшенной барельефами, сооруженной из камня и доверху обложенной медными листами. Триумфальная арка так поразила его воображение, что он не поленился подняться наверх, чтобы лучше разглядеть квадригу коней, вывезенных из Италии. И как раз в это время на лесах работали австрийские солдаты, снимавшие коней, чтобы отвезти их в Вену. Один из солдат подарил ему обломок постамента с вензелем Наполеона. И снова, как при встрече с безногим французским офицером, сердце его возмутилось против жестокосердия и надменности союзников. Зачем раздражать народ, действительно славный? Зачем задевать народную гордость, взращенную двадцатилетними победами?