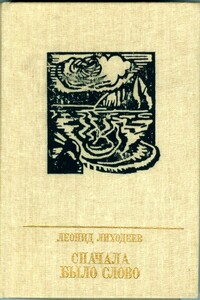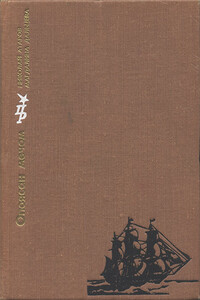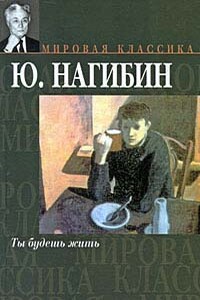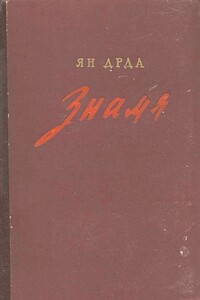Этот акт возмездия он собирался совершить на петергофских празднествах или на маневрах.
Что греха таить, тогда при разговоре, когда Якубович картинным жестом сорвал со лба черную повязку и показал сочащуюся, незаживающую рану, он был пленен этим жестом, да и словами: «Я мог бы залечить эту рану на Кавказе, но отказался, чтобы, воспользовавшись случаем, добраться до своего врага. Хоть я с гнилым черепом, но он от меня не ускользнет. А вы тоже пользуйтесь этим случаем».
Сгоряча он доверился этим словам, но, поостыв, пришел в ужас. И сейчас более, чем вялость и нерешительность товарищей, пугала одержимая, не ведающая препон мстительность Якубовича. Он может нанести свой удар раньше времени, когда общество еще не будет готово.
Румянощекий Орест Сомов вбежал не постучавшись, на правах соседа, протянул Рылееву красивую картоночку с золотым обрезом.
— Прокофьев прислал. Приглашает завтра на обед в ресторацию Кюба. Будет вся литература — Греч, Булгарин, Туманский.
— А Жуковский и Карамзин?
— Шутить изволите? До этих высот мы еще не достигли. Впрочем, будет граф Хвостов.
— Полоумный графоман?
— Зато акционер. Да еще Александр Александрович Бестужев.
— Это уже легче: но скажи, Орест, зачем он устраивает литературные обеды? Что ему Гекуба?
— Так иноземцы же будут! Надо же нашу образованность показать. Ну и, конечно, парле франсе. Московские, замоскворецкие тоже приехали. С ними и по-русски не разговоришься.
— Незавидная наша роль…
— Не скажите. Служебный долг. По мне, лучше его выполнять в ресторации, чем в канцелярии. А засим бывайте здоровы. — И он удалился чуть что не вприпрыжку, вихляя фалдами фрака цвета сливы.
Папильон! И еще толкует о долге. Позавидуешь этакой легкости в мыслях. А самого долги давят. Служебный долг. Семейный долг. Долг общественный. Долг Катерине Ивановне Малютиной — денежный долг. Да что же, в конце концов, он за должник такой! В яму его, как банкрота! Перебирал сейчас в уме сотоварищей. Все не так хороши, как хотелось бы. А сам? Если подытожить все, что сделано за этот год!
Заботился о росте общества. Принял Николая и Александра Бестужевых, Торсона, запнулся на Завалишине, но, как знать, может, все сомнения пустые? Каховский и Якубович. О последнем лучше не вспоминать. Осечка. На очереди Сутгоф и Панов. Посчитать, так не много, но за каждым рота, а то и полк недовольных, жаждущих перемен и справедливости.
Ездил в Москву выведывать умонаправление купцов. Пока попытка бесплодная, но небезнадежная.
В самом обществе настоял на сближении с южанами, на объединенном проекте конституции, расшевелил умы.
Как будто не так уж мало. Но все это похоже на начало деятельности общества, а время не терпит.
Он подошел к конторке. Тетради, листочки, а то и вовсе обрывки бумажонок, исписанных торопливо, летучим, как бы гоняемым ветром, почерком, — куски поэмы «Наливайко». Так как же мог он забыть еще об одном долге? О долге поэта?
Когда-то Пущин говорил ему о том неподдающемся исчислению влиянии, какое его стихи производят на общество. Так, может, хоть тут он не будет должником и расплатится сполна?
Он хотел взяться за перо, еще не думая, о чем напишет, уверенный, что сама привычная позиция с пером в руке у конторки заставит заработать мозг и строки хлынут. Но странная мысль остановила руку. Всегда он писал о казаках, гайдамаках, новгородцах — и в «Думах», и в «Войнаровском» — без долгих размышлений, выбирая эпохи переломные, события узловые, отражающие и гнев и единение народное. Тут не было обдуманного заранее намерения. Сюжеты эти, близкие и натуральные как дыхание, не могли не возникнуть в его вольнолюбивой душе. Но почему-то центром всех событий, главным героем, возносящимся над всеми, оказывался герой-одиночка, обреченный на гибель. Что это — строки Байрона, впитавшиеся в плоть и кровь? Ворожба пушкинских «Цыган»? Почему с такой неотвратимостью герой шел к гибели, почти уверенный в ее неизбежности? И каждый раз, пиша, он перевоплощался в своего героя и не мог представить для него иного пути. Не в себе ли самом искать разгадку? Разве не одинок он сам среди множества сочувствующих, согласных голосов далеких и близких друзей? Разве не возникает временами то ли во сне, то ли наяву тоска по пугачевской, по разинской вольнице, так пугающей всех единомышленников, да и себя самого в часы трезвой рассудительности? Но издавна, еще в Париже, заглядевшись на мидинетку с полосатой картонкой, он мечтал «глотнуть из фиала свободы». И свобода эта представлялась как безраздельное слияние с народом.