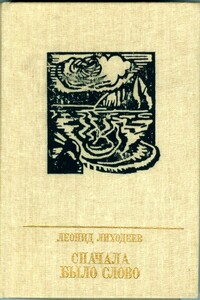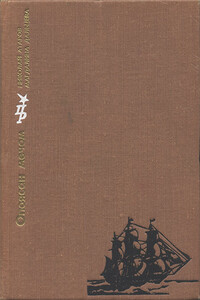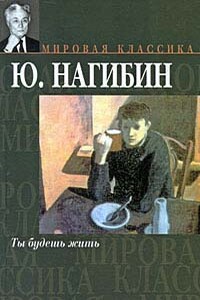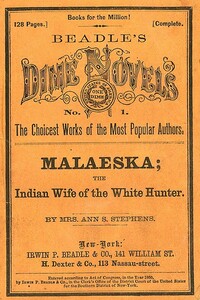Что сказать тебе о думах? во всех встречаются стихи живые, окончательные строфы „Петра в Острогожске“ чрезвычайно оригинальны. Но вообще все они слабы изобретением и изложением. Все они на один покрой: составлены из общих мест… Описание места действия, речь героя и нравоучение. Национального, русского нет в них ничего, кроме имен (исключаю „Ивана Сусанина“, первую думу, по коей начал я подозревать в тебе истинный талант). Ты напрасно не поправил в „Олеге“ герба России. Древний герб, святой Георгий, не мог находиться на щите язычника Олега; новейший, двуглавый орел есть герб византийский и принят у нас во время Иоанна III, не прежде. Летописец просто говорит: Таже повеси щит свой на вратех на показание победы.
Об „Исповеди Наливайки“ скажу, что мудрено что-нибудь у нас напечатать истинно хорошего в этом роде. Нахожу отрывок этот растянутым, но и тут, конечно, наложил ты свою печать.
Тебе скучно в Петербурге, а мне скучно в деревне. Скука есть одна из принадлежностей мыслящего существа. Как быть. Прощай, поэт — когда-то свидимся?»
Еще не получив это холодноватое письмо, Рылеев писал ему с обычным восхищением:
«В субботу был я у Плетнева с Кюхельбекером и с братом твоим. Лев прочитал нам несколько новых твоих стихотворений. Они прелестны; особенно отрывки из „Алкорана“. Страшный суд ужасен! Стихи
И брат от брата побежит,
И сын от матери отпрянет —
превосходны. После прочитаны были твои „Цыгане“. Можешь себе представить, что делалось с Кюхельбекером. Что за прелестный человек этот Кюхельбекер. Как он любит тебя!
Как он молод и свеж! — „Цыган“ слышал в четвертый раз, и всегда с новым, с живейшим наслаждением. Я подыскивался, чтоб привязаться к чему-нибудь, и нашел, что характер Алеко несколько унижен. Зачем водит он медведя и сбирает вольную дань? Не лучше ли б было сделать его кузнецом? Ты видишь, что я придираюсь, а знаешь, почему и зачем? Потому, что сужу поэму Александра Пушкина; затем, что желаю от него совершенства. Насчет слога, кроме небрежного начала, мне не нравится слово:
рек. Кажется, оно несвойственно поэме; оно принадлежит исключительно лирическому слогу. Вот все, что я
придумал. Ах, если бы ты ко мне был так же строг; как бы я был благодарен тебе… Прощай, милая сирена».
Пиша эти строки и размышляя над уместностью слова «рек», он подумал, как далеко удалился от тех времен, когда в стихах насмехался над журналистами, которые «О срам! Поссорились за оду». Видно, пора зрелости наступает так же незаметно, как улетучивается юность. Теперь он понимал, что значит в писательском труде каждое слово.
А литературная полемика между Пушкиным и единомышленником Рылеева, Бестужевым, не прекращалась. Теперь спор возник по поводу статьи Бестужева в «Полярной звезде», которая казалась Рылееву такой основательной и глубокомысленной. Бестужев писал:
«Отчего у нас нет гениев и так мало талантов литературных? предслышу ответ многих, что „от недостатка ободрения“, — так его нет — и слава богу! Ободрение может оперить только обыкновенные дарования; огонь очага требует хвороста и мехов, чтобы разгореться, но когда молния просила людской помощи, чтобы вспыхнуть и реять в небе? Гомер, нищенствуя, пел свои бессмертные песни, Шекспир под лубочным навесом возвеличил трагедию; Мольер из платы смешил толпу; Торкватто из сумасшедшего дома шагнул в Капитолий; даже Вольтер лучшую свою поэму написал углем на стенах Бастилии; гении всех времен и народов, я взываю вас!»
Пушкин настаивал на необходимости ободрения и приводил в пример тех же Шекспира, Тассо, Мольера, Вольтера, да еще и Карамзина и Державина. «Из неободренных вижу только себя да Баратынского — и не говорю: слава богу», писал он. Но с негодованием отвергал покровительство равных. «У нас писатели взяты из высшего класса общества. Аристократическая гордость сливается у них с авторским самолюбием. Мы не хотим быть покровительствуемы равными. Вот чего подлец Воронцов не понимает. Он воображает, что русский поэт явится в его передней с посвящением или с одою, а тот является с требованием на уважение, как шестисотлетний дворянин, — дьявольская разница!»