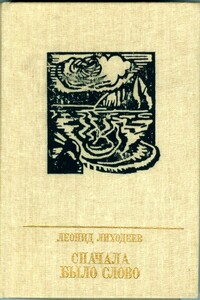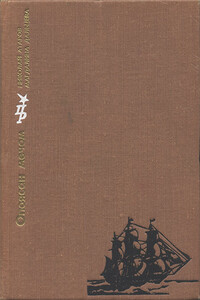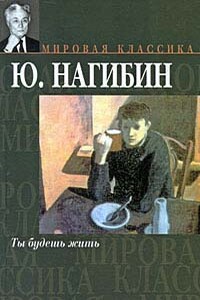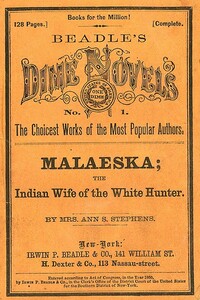Погасло дн
евное светило,
Настала ночь… Вот месяц всплыл,
И одинокой и унылый,
Дремучий лес осеребрил
И юрту путникам открыл.
Пришли — и ссыльный, торопливо
Вошед в угрюмый свой приют,
Вдруг застучал кремнем в огниво,
И искры сыпались на трут,
Мрак освещая молчаливый,
И каждый в сталь удар кремня
В углу обители пустынной
То дуло озарял ружья,
То ратовище пальмы длинной,
То саблю, то конец копья.
…
Вот, вздув огонь, пришлец суровый,
Проворно жирник засветил,
Скамью придвинул, стол сосновый
Простою скатертью накрыл
И с лаской гостя посадил.
Перечитывая вслух, он испытывал неизъяснимое удовольствие, произнося слова — ратовище пальмы, жирник. Этого не было раньше. Раньше казалось самым главным написать, как пишут другие. Теперь ему хотелось быть непохожим.
Впрочем, это уж не такое новое желание. И так же, как недавно в Подгорном, когда он и восхищался Пушкиным и спорил про себя с ним, слабодушно успокаиваясь тем, что нельзя оттачивать строки, рвущиеся из души, теперь становилось понятно — можно и д
олжно. Только не легко дается. К тому же писать приходится урывками. Дел выше головы. Вот и сейчас должен прийти Александр Бестужев, чтобы вместе писать песни для народа. Подблюдные песни.
В уставе тайного общества было сказано, что надобно готовить простой народ к предстоящим переменам. Справедливая мысль. Но как ее осуществлять? Об этом никто не подумал.
Что таить, эта склонность людей, перед коими он преклонялся, подолгу размышлять над благими установлениями и не торопиться применять их к жизни, удручала его. Следовало расшевелить, растолкать всю эту высокоумную братию. И на одном из совещаний Северного общества он предложил создавать песни для народа, написанные простым, понятным каждому языком, в форме шуточной, а вернее, сатирической, раскрыть людям, что их окружает, рассказать об их правах.
Предложение было принято с полным одобрением, и вместе с Бестужевым они принялись за работу. Да и можно ли назвать работой эту веселую импровизацию?
Будто подтверждая его мысли, Бестужев ворвался в кабинет, крича:
— Идея! Что там вязать строчки, поучать тех, кто больше нас учен! Нужна пародия. Пародия на песню всем известную. Сладчайший Нелединский — наш трамплин!
Рылеев расхохотался:
— Нашел народного поэта! В огороде бузина, а в Киеве дядька. Альбомные стишки превратить в подблюдные песни?
— Рассеянный ты человек! Рассеянный и недогадливый. А что поют все лакеи и ключницы? Повара и кухарки? Вся дворня государства Российского?
— «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан».
— Забыл самую любимую, самую чувствительную, самую душещипательную:
Ох, тошно мне
На чужой стороне;
Все постыло,
Все уныло:
Друга милова нет.
— Постой, постой! Тут что-то набегает. — Рылеев взъерошил волосы и прошептал: — «Ах, тошно мне и в родной стороне: всё в неволе, в тяжкой доле…»
— «Видно, век вековать», — вдруг протодьяконским басом прогудел Бестужев и продолжил дискантом: — «Долго ль русский народ будет рухлядью господ…»
— «И людями, как скотами, долго ль будут торговать?..» — продолжил Рылеев и с удивлением заметил: — А ведь пошло.
— Как на санках под гору! — кричал Бестужев.
Рылеев любовался им. Какая искренняя, непосредственная натура! Надевает на себя личину непонятого байронического героя, когда есть перед кем покрасоваться, а на самом деле весел и простодушен, как ребенок.
И так, болтая и распевая на два голоса песню, часа через два они закончили свой труд. И Александр уже серьезно, с чувством прочитал:
А уж правды нигде
Не ищи, мужик, в суде,
Без синюхи
Судьи глухи,
Без вины ты виноват.
Чтоб в палату дойти,
Прежде сторожу плати,
За бумагу,
За отвагу
Ты за все про все давай!
Там же каждая душа
Покривится из гроша:
Заседатель,
Председатель,
Заодно с секретарем.
Нас поборами царь
Иссушил, как сухарь:
То дороги,
То налоги,
Разорили нас вконец.
— Все! — закричал Бестужев, размахивая исписанным без помарок листом бумаги.
— Погоди. Нужны заключительные строки. Некий итог. К чему мы их призываем?
Над заключительными строками пришлось задержаться подольше, но они и в самом деле звучали, как итог:
А до бога высоко,
До царя далеко,