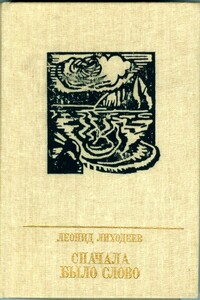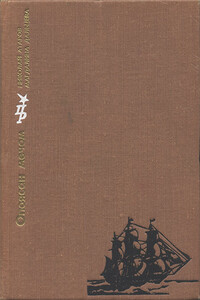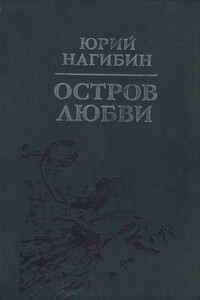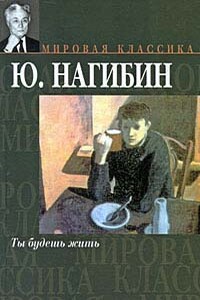И кто-то невпопад добродушно возразил:
— Масоны — тихие люди. Иллюминаты, алхимики…
Прокофьев, обходивший длинный стол, в это время приблизился к Рылееву.
— Когда удастся поговорить, Иван Васильевич? — взмолился он. — Дела зовут в столицу.
— Дело не медведь, — хитро улыбаясь, ответил хозяин. — А если уж так недосуг, задержитесь, когда гости отбудут.
После обеда гости расходились дружно, и опять над передней висел густой бас батюшки:
— И читал он славословия, кафизмы, пел ярмосы, кондаки, антепоны…
В кабинете Прокофьева письменного стола не было, но стояла конторка прямо перед образами в золоченых ризах, густо завешивающих угол. Рылееву подумалось, что это очень предусмотрительно, — обсчитывая своих поставщиков и грабя туземцев-охотников, тут же и каяться перед Николаем-чудотворцем, не отрываясь надолго от дел коммерческих.
Прокофьев усадил его в жесткое кресло, стоявшее за овальным столиком у окна, сам уселся напротив, спиной к свету. Свечи в комнате еще не зажигали, лишь багровое от заходящего солнца небо да тусклый свет лампады перед образами освещали таинственным светом полутемную комнату.
Прокофьев поигрывал брелоками на золотой цепочке, тянувшейся через весь жилет, покряхтывал, как видно отяжелев от бесконечного обеда, и, вздыхая, сказал:
— О делах будем говорить завтра. Голова тяжелая. А тут еще Николашка за границу просится, вместо именинного подарка. Чего он там не видел? Мамзелей? Мамзелей и у нас хватает, хошь на Кузнецком в модных лавках, хошь в Мещанской слободе…
Более всего Рылеев не любил разговоры на темы фривольные и сразу перебил разоткровенничавшегося купца:
— А может, его любознательность томит?
— Любознательность? А зачем в нашем деле любознательность? Одно рассеяние. — Он задумался и вдруг хохотнул себе в бороду. — Я знал в Костроме одного купца-старообрядца. Священными книгами торговал, так он к тем, что гражданскими литерами набраны, пальцем боялся прикоснуться. Шарахался как черт от ладана. Однако нажил большие тыщи на этом товаре. Безо всякой любознательности.
Рылеев не сдержался:
— Стало, хотите, чтобы ваш сын коснел в невежестве?
— Может, и хотел бы, да не выйдет. Модные мысли по воздуху, как зараза, ходят.
Возразить Рылеев не успел. В комнату без стука вошел слуга и внес канделябр с зажженными свечами.
При свете багровое лицо Прокофьева в раме седеющей бороды показалось усталым, опечаленным. Рылеев круто повернул разговор.
— Но я бы хотел, чтобы вы подумали о том, что делают с нами в верхах. Проект Завалишина о колонии Росс снова положили под сукно. А ведь он уже побывал в Адмиралтействе, и они передали его нам. Мы, мало сказать, одобрили, поддержали его изо всех сил. И снова в яму. Проектами значения государственного как в лапту играют.
Не поднимая головы, Прокофьев сказал:
— Надо нажать на Мордвинова, на графа Хвостова…
— Да толку что? Наши акционеры — чиновники в первую очередь. И хочется, и колется. Деньги — дело наживное, а должность, чин потерять — обратно не воротишь. Не так часто случается. Вспомните-ка Сперанского…
— Заколдованный круг.
Заметив грустное сочувствие на лице Прокофьева, Рылеев с жаром продолжал.
— Так надо же разорвать этот круг! Подумайте, Иван Васильевич! Даже если мы и решимся воевать по каждому отдельному случаю из-за бессмысленных задержек, из-за нелепых препятствий — годы уйдут! И захиреет наша Российско-американская, как уже начала хиреть после двенадцатого года.
— А что делать?
Рылеев заметил, что с каждым его словом Прокофьев все более мрачнел, и продолжал с тем же пылом:
— Вот вы и должны думать, что делать. Купечество — такая сила! Войдя в правительство как достойный, равноправный член, можете сделать отчизну нашу не только воинской славой богатой, но и изобилием благ, благоденствием жителей, справедливостью законов…
Кажется, он перехватил, заврался… Это же не молодые офицеры, жаждущие добра и справедливости. Но Прокофьев заметно повеселел, польщенно улыбался и приговаривал:
— Это вы верно сказали. Если купец не глупец — не пуст и ларец. Это только немец ведет торговлю по газетам, а мы по приметам. Что война, что мир — купцу все пир. И убытки наши не от войны, не от начальства, а от того, что одни не по карману проживаются, а другие не по силе забираются.