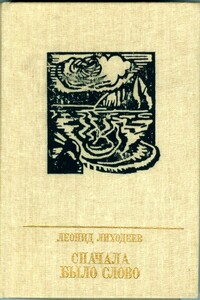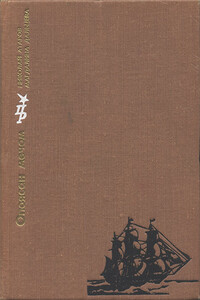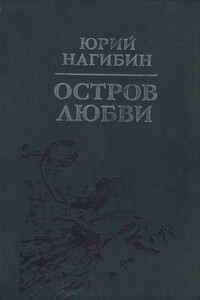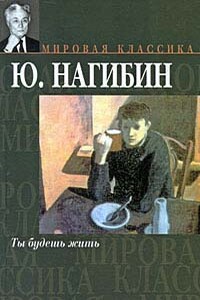Малютина, низкая женщина, из ревности, из ненависти к Наташе, что ли, присчитала к действительному долгу еще столько же, якобы за неисправности в ведении дел по опеке ее детей. Все счета по опеке в целости и сохранности и лежат на верхней полочке в секретере. И эта бесстыжая женщина, с которой он мог когда-то… Как с цепи сорвалась, требует немедленной расплаты.
Погружаясь во все эти меркантильные заботы, от которых отмахивался прежде, запуская дела хозяйственные, делая долги без особой нужды и, не задумываясь, отдавая в долг такие же суммы, он не только беспокоился о благополучии семьи, но и прикрывал свое томительное бездействие подобием деятельности и семейных забот.
Но не только себя утешал он этой видимостью житейских забот, Наташа, входя в круг непривычных для нее обязанностей главы семьи, отвлекалась от горестных мыслей.
Эти письма шли к жене весь апрель, май, июнь.
С каждым письмом все более погружаясь в некогда постылые житейские заботы, сетуя на Наташу, отославшую книгопродавцу Смирдину целую кипу новых книг, считая, что за них не заплачено, посвящая половину писем приветам и благодарностям родным и знакомым, не оставляющим своим вниманием его семью, он томился до отчаяния от отсутствия друзей, которые всегда были рядом. Размышлять вместе с ними, спорить, сочувствовать им, внимать ответному слову дружбы…
Бумага, на которой он писал письма и показания, была нумерованной. Послать письмо друзьям — никак. Да и решатся ли его безмолвные стражи передать? Он догадывался, что многие из его товарищей рядом, за глухими стенами Алексеевского равелина, но как преодолеть ничтожное это расстояние?
Разговаривать со стражами бесполезно. Но однажды, когда сторож приносил ему обед, он сказал вслух, не надеясь на ответ:
— Поди, деревья уже распустились…
Ответа не последовало. Но на следующий день также молча сторож принес ему несколько ярко-зеленых, свежих кленовых листьев и сам, растроганный то ли своим, геройским поступком, то ли восторгом узника, шепнул:
— Пиши письмо.
Не зная, кому он пишет, он наколол на листьях стихи, какие давно сложились и повторялись про себя, как молитва.
Мне тошно здесь, как на чужбине.
Когда я сброшу жизнь мою?
Кто даст крыле мне голубине,
Да полечу и почию.
Весь мир как смрадная могила!
Душа из тела рвется вон.
Творец! Ты мне прибежище и сила,
Вонми мой вопль, услышь мой стон:
Приникни на мое моленье,
Вонми смирению души,
Пошли друзьям моим спасенье,
А мне даруй грехов прощенье
И дух от тела разреши.
Этот крик души беззвучно раздался в Алексеевском равелине в надежде, что кто-нибудь откликнется.
Ответ пришел через три дня. Сострадательный страж Никита Нефедьев отнес его в дальнюю камеру, отделенную от других, называвшуюся «офицерской», где находился Евгений Оболенский.
Лучшего адресата он не мог бы найти, если бы даже задался такой целью.
На мятых обрывках оберточной бумаги наколотые толстой иглой буквы запрыгали перед глазами Рылеева. Со всем пылом своей восторженной души Оболенский, писал, что радость его может понять только тот, кто испытал невидимое соприкосновение, какое внезапно объемлет душу, когда нечто родное, близкое коснется ее. При чтении строк Рылеева он как бы заново постиг самого себя. То, что мыслил, чувствовал Рылеев, сделалось его мыслью и чувством. Его болезнь сделалась своей болезнью, его уныние охватило всю душу, его вопиющий голос звучал в ушах, как собственный. К кому же он мог обратиться с этой радостью, пронизанной скорбью, с этой скорбью, излучавшей радость? К всевышнему, к какому обращался все дни заточения. Он пал на колени и молился…
Взволнованные, сбивчивые эти строки, будто вслух произнесенные высоким, теноровым голосом Оболенского, заставили на несколько минут забыть свое одиночество, испытать отраду души вместе с другом.
В обед догадливый Нефедьев принес еще несколько кленовых листьев и положил их в самый темный угол, недоступный глазу надзирателя. И снова в «офицерскую» камеру проникло новое письмо.
Рылеев писал:
«Любезный друг! Какой бесценный дар прислал ты мне! Сей дар чрез тебя, как чрез ближайшего моего друга, прислал мне сам спаситель, которого давно уже душа моя исповедует. Я ему вчера молился со слезами. О, какая это была молитва, какие это были слезы и благодарности, и обетов, и сокрушения, и желаний — за тебя, за моих друзей, за моих врагов… за мою добрую жену, за мою бедную малютку: словом, за весь мир! Давно ли ты, любезный друг, так мыслишь, скажи мне, чужое ли это или твое? Ежели эта река жизни излилась из твоей души, то чаще ею животвори твоего друга. Чужое оно или твое, но оно уже мое, так как и твое, если и чужое. Вспомни брожение ума около двойственности моего духа и вещества».