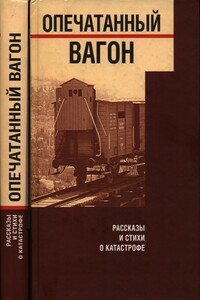На средине Груецкой пана Адама настигла вдруг режущая боль в желудке. Уже не первый день донимали его такого рода острые, хотя и короткие боли. Скорчась, с посеревшим лицом, он едва дотащился до ближайшей подворотни. Как и повсюду здесь, пустоту ее обрамляли обгоревшие стены. Подворотня была мрачная, сплошь в обломках, но дальше, за нею, светлел дворик.
— Сел бы ты лучше во дворе, — посоветовала пани Гелена.
Гродзицкий усилием воли заставил себя пройти еще несколько шагов. Едва оказавшись во дворе, он бессильно опустился вместе с рюкзаком на ближайшую груду кирпича. Свесил голову, закрыл глаза, застыл.
Пани Гелена немного постояла возле него, потом тоже села. В платке, покрывавшем голову, в черном, насквозь пропыленном пальто с потертым меховым воротником, в парусиновых, сильно разношенных, стоптанных туфлях и с узлом на спине, она выглядела много старше своих лет. Из-под платка выбились седые пряди. Она машинально поправила их, сунула под платок.
Двор был затишный. Меж развалин кое-где зеленела свежая трава. На обгорелых стенах ярко горел закат. С громким криком носились в воздухе ласточки.
Гродзицкий сидел молча, сгорбленный, недвижный. И, сжав губы, тяжело дышал. Видно, мучился.
— Поздно уже, — сказала чуть погодя пани Гелена. — Очень больно?
Он кивнул. На этот раз он не почувствовал раздражения в голосе жены, но понимал, что Гелена в обиде на него за потерю времени.
Постепенно боль стала утихать. Гродзицкий поднял голову, открыл глаза и окинул взглядом завалы вокруг, рыжие и черные пожарища.
— Смотри! — молвил он тихо, удивленно. — И здесь когда-то люди жили…
Она не ответила. Сидела рядышком на кирпичах, прямая — хотя тяжелый узел гнул ей спину, — сложив руки на коленях. Нетрудно было догадаться, о чем она думает. Чем ближе к родине, к Варшаве, тем больше терзала ее та единственная, неотвязная мысль, которая заставила их обоих столь поспешно вернуться сюда, к этим руинам. Мысль эта была их общей мыслью, но, поскольку они не делились ею, она не сближала, а, напротив, отдаляла их друг от друга.
Гродзицкий поправил рюкзак, с трудом поднялся.
— Идем?
Пани Гелена тоже встала. «Откуда только она силы берет?»— с горечью подумал он. Не оглядываясь на мужа, ступая по обломкам, она направилась к воротам. Гродзицкий еще раз оглядел двор. И вдруг вздрогнул.
— Смотри, Геленка, — позвал он жену.
Она остановилась.
— Смотри! — повторил он. — Подумать только, сирень цветет…
В самом деле посреди двора, на том месте, где прежде, вероятно, был сквер, среди кучи щебня, мертвых •кирпичей и камня, выстреливала вверх хрупкая веточка сирени, зеленеющая молодыми, клейкими листочками и усыпанная на конце мелкими белыми цветами.
— Видишь?
Он подошел поближе и, вскарабкавшись на каменную груду, склонился к ветке.
— И угораздило же тебя вырасти тут, бедолага, — сказал он ласково.
Ему хотелось, чтобы жена разделила его волнение, но, обернувшись, он увидел, что она стоит у ворот, опустив голову, не проявляя ни малейшего интереса к цветущей сирени. Устыдившись, что из-за него они запаздывают, он быстро сошел с осыпи. Спустя минуту оба уже были на улице.
Но увы, вскоре Гродзицкого опять прихватило — потерять пришлось минут пятнадцать. Потом, уже ближе к центру, не однажды пригвождала его к месту внезапная резь в животе. И всякий раз пани Гелена спрашивала: «Очень больно?», хотя в голосе ее скорей звучала надежда на то, что он ответит отрицательно, нежели забота о нем. Наконец, когда им в четвертый или в пятый раз пришлось остановиться, она, глядя в землю, сказала:
— Теперь, собственно, все равно, спешить уже незачем…
Он не ответил. И так было ясно, что им не поспеть на Мазовецкую засветло. Смеркалось, они шли по улицам, погружавшимся в сумерки, среди сплошных руин и пожарищ, которые отчетливо рисовались в голубоватом вечернем воздухе. Пора было подумать о ночлеге.
Инстинктивно, не сговариваясь, они направлялись к прежнему своему дому в Мокотове и потому по пути решили свернуть на улицу Снядецких, где жила сестра пани Гелены Мария Ольшевская. Гродзицкие с первого дня восстания не имели никаких известий ни о ней, ни о ее сыне, ровеснике Янека. Не знали даже, живы ли они. Збышек Ольшевский без сомнения принимал участие в восстании. А старший его брат, Стефан, был расстрелян во время уличной экзекуции еще осенью сорок третьего года. «Нету, наверно, Марии, — твердила по пути пани Гелена. — Тоже небось погибла…»