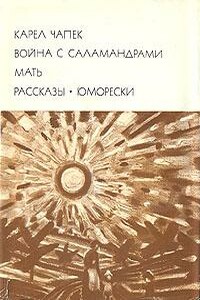Молодая строптивая коза Цыганка была чёрная-пречёрная. Ни единого светлого пятнышка от кончиков ушей до кончика хвоста. А ещё она была такая бодливая, что просто не приведи Господь! Так и хотелось ей что-то поддеть, кого-то боднуть.
Мы держали её в сенях, и путь от порога наружных до порога внутренних дверей находился в сфере её досягаемости. Едва я входил в сени, как она, круто выгнув шею, мгновенно припечатывала меня к стене. Я орал не столько от боли, сколько от страха.
Мать, заслышав крик, выскакивала в сени и разводила нас, выговаривая ей:
— Ах, ты, дьявол тебя возьми-та! Ты, что же это никак не угомонишься? Бестолочь такая!
Стадо было не для Цыганки. Пастухи отказались от неё на следующий же день. Сладу с ней не было никакого.
Я был обречён!
В то время, когда мои сверстники играли на нашей широкой улице, я должен был пасти это чудовище.
Позади больших огородов, прилегающих к нашим усадьбам, находился довольно-таки глубокий овраг с крутыми склонами и пологими спусками, с ложбинами и лужайками сочной травы.
По дну оврага протекал чистой воды ручей. Весной земля в овраге просыхала раньше, чем на открытой местности, и трава зеленела раньше, чем в других местах.
В этот овраг приводили меня с Цыганкой и оставляли надолго наедине с ней. И никого вокруг, никого! Как будто в целом мире никого!
В такие минуты я чувствовал себя совсем маленьким и беззащитным, всеми покинутым, и такая жалость пробуждалась к самому себе, что хоть плачь.
Я ложился навзничь на тёплую землю и смотрел в небо, по которому плыли и плыли облака. В их очертаниях моё воображение рисовало то фигуры людей, то каких-то диковинных животных, то громады дворцов и замков, а мне хотелось только одного — избавиться от этого наказания, от Цыганки.
И только тогда, когда я пошёл в школу, в первый класс, меня освободили от Цыганки.
Голод и безысходность гнали народ с насиженных мест в иные края на поиски иной, лучшей доли. За какую-то половину года с нашей улицы уехало с десяток семей.
С наступлением осенних холодов и в нашей семье стали поговаривать об отъезде.
И когда после первых пространных разговоров намерение об отъезде на Донбасс стало необратимым, судьба Цыганки была решена.
На рынке Цыганку взяли, не торгуясь.
И скучно нам стало без Цыганки, и грустно.
А осень тем временем наступала с каждым днём.
То ли увядание природы пробуждало в моей душе какую-то неясную тревогу, то ли сборы и беспокойство предстоящего отъезда передались и мне, но я теперь не спешил из школы после уроков, как обычно, домой, а шёл довольно долго кружными путями, хотя привычная дорога домой для меня была минутным делом.
Предчувствуя невозвращение в этот город, я прощался с крутыми и пологими склонами оврага, с его кустарниками и деревьями, с его чистой воды ручьём. Я прощался с исхоженными мной местами — я прощался с детством.
Однажды, выйдя из школы, я пошёл краем оврага совсем в противоположную от дома сторону — в сторону длинного и узкого пешеходного моста, соединившего крутые склоны оврага.
На моём пути, несколько поодаль от него, жалобно блеяла чья-то коза, привязанная к вбитому в землю колышку.
Серый день и безлюдье придали мне ощущение одиночества и сиротства.
Я миновал было безучастно козу, как вдруг, словно молния пронизала меня! И коза, и её печальный голос показались мне знакомыми!
— Цыганка! — крикнул я и кинулся к козе.
Цыганка рванулась навстречу, верёвка резко дёрнулась, Цыганка взвилась, но устояла на задних ногах и громко закричала, о чём-то жалуясь мне.
Я упал перед ней на колени и крепко обнял её за шею, а она тёплой мордочкой уткнулась в мою грудь.
Мы плакали.