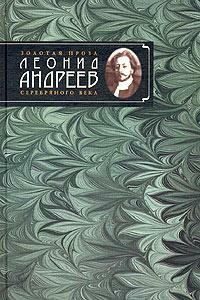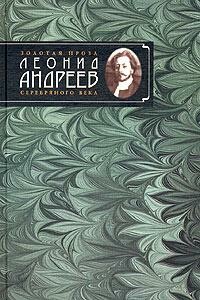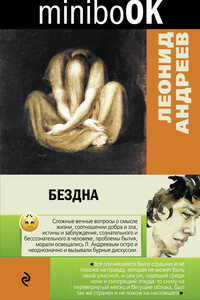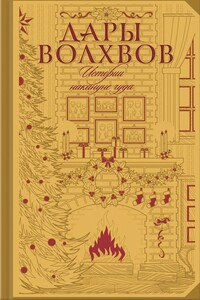Подали лошадей: две пары и одну тройку для чиновника. Засуетились, попадья залилась слезами, бабы полезли к окнам. Вышел из своей комнаты, где он так долго отсиживался от врагов, поп Иван, одетый уже совсем по-дорожному в огромную медвежью шубу, в которой его маленькое тельце терялось, как узкое маленькое веретено в клубке растрепанной пряжи. Ни на кого не глядя, ни на жену, ни на о. Эразма, уже приготовившего нерешительные объятия, поп проследовал к дверям, – как вдруг преградил ему дорогу Сашка.
– Чего тебе? – сухо посмотрел о. Иван. И Сашка громко отчеканил:
– Папаша! Позвольте от лица нашего класса выразить вам сочувствие.
– Поблагодари, – коротко ответил о. Иван и вышел.
В доме же поднялся переполох, произведенный Сашкиной мальчишеской выходкой: чиновник пожимал плечами, выслушивая объяснения Николая, а о. Эразм бестолково наставлял крайне довольного собою Сашку.
– Скажите, какой депутат! Драть тебя нужно за твое сочувствие со всем твоим классом – депутат!
А тем временем о. Иван стоял на улице и ждал надменно, в какую повозку прикажут садиться; и, как покойника, с любопытством нестерпимым, разинув рты от натуги, разглядывали его мужики и бабы. Он же глядел поверх голов на переломленный князек Самойловой крыши, той самой крыши, которая в своем диком сходстве с двугорбым соломенным верблюдом уже лет пятнадцать неизменно предстояла его взорам.
Наконец усадили о. Ивана. Сын Николай, у которого от слез запухли глаза и крупичатое лицо покрылось красными пятнами, с безнадежной услужливостью подтыкивал веретье, запахивал отцу полы и закрывал ноги сеном, труся его дрожащими пухлыми пальцами.
– Дорогой холодно будет, папаша. Солнце-то оно обманное – никакого тепла в нем нет. Позвольте вашу ножку.
С тою же надменностью, словно совсем не замечая сына, поп отдавал то одну ногу, то другую я глядел поверх дуги. Не обратил как будто внимания и на то, что Николай вдруг громко захлипал, заплакал и, имея руки занятыми, пытался вытереть слезы о свое же плечо. Но внимательные бабы заметили и прослезились.
– Как Николай-то убивается! Ай-ай-ай-ай, как убивается!
– Не видать ему теперь своего папашеньки.
– Какое видать! Дай Бог, если самого на колокольне не посадят.
– Распотрошился поп.
– Николай-то как убивается! Ай-ай-ай-ай, как убивается!
Отчаянно взмахнув рукой, Николай крикнул:
– Трогай!
Но не успели лошади сделать и двух шагов, как с тем же отчаянным жестом Николай закричал:
– Стой! Стой!
Разбрызгивая лужи и завязая в грязи, подбежал к повозке и схватил отца за рукав:
– Папаша, перед домом-то… Я же тут родился, папаша. Снимите заклятие, снимите! На колени стану!
Он, действительно, как был в шелковом подряснике, так и опустился на колени в грязь.
– Снимите. Даже не как отца, а как священнослужителя… прошу… прошу. Папаша!
Отец Иван сердито крикнул:
– Трогай!
Но кучер не послушался; и, ударив кучера кулаком в спину, о. Иван закричал:
– Трогай, тебе говорю-у!
Лошади тронулись. Еще одну минуту стоял на коленях Николай, бессмысленно взывая: «Перед домом-то, папаша, перед домом-то», потом без шубы, грязный, полез в первую попавшуюся повозку; потом его одели и посадили уже как следует с чиновником, который, видя отчаяние его, взял на себя задачу разговорить его и утешить.
И поехали они. Голося колокольцами и бубенцами, нагоняла чиновничья тройка уехавшего вперед о. Ивана, а позади, не торопясь, плелся Сашка. Село было длинное, версты на две, и долго проезжали его; но ни разу не оглянулся поп Иван, не ответил на поклон, на чей-то громкий привет не ответил – будто по чистому полю или лесом глухим ехал он; как задрал вверх бороденку, садясь, так и держал ее: ни направо, ни налево, а все прямо и вперед к далекому, неизвестному, многообещающему знаку. Думал ли он вернуться в село, или же, ополчившись на сынов человеческих, надменно отрицал кривые избы, мужиков, самую грязную землю, по которой с великим трудом влеклась колымага, – он был тверд и злобно решителен. Не торопился и не медлил, а ехал так, как везли, и туда, куда везли; не приближал событий, но и не отдалял их, зная, что придут события в свое время и уйдут события в свое время, и длинная череда их завершится искомым знаком.