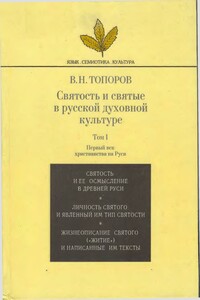[…]), и последней просьбы к священноиноку Андрею, следует краткое перечисление того, что было сделано, и подведение некоторых итогов (погребение Антония Нифонтом «со множествомъ народа града того», положение праха в церкви Пречистой Богородицы, поставление в игумены Андрея, поведавшего Нифонту и «княземъ града того и всемъ людемъ» то, что он слышал от преподобного и о «чюдесехъ сихъ»; ср. также приведение некоего «послужного» списка Антония — 14 лет до игуменства, 16 лет в игуменстве и «всехъ летъ поживе во обители 30»), — после всего этого следует повеление архиепископа Нифонта (похоже, автора всей этой части после антониевой молитвы) «сие житие преподобнаго изложити, и написати», незаметно и как бы не вполне оправданно перерастающее в филиппику против римских отступников, — … и церкви Божии предати [будущее житие. — В. Т.] на оутвержение веры християнстей и спасение душамъ нашимъ, — и гораздо энергичнее, жестче, угрожающе — а римляномъ, еже отступиша от православныя греческия веры и преложишася въ латыньскую веру, на посрамление, и на оукоризну, и проклятие […]. В этой «нифонтовской» части именно проклятие «римляномъ» занимает центральное место: оно звучит как последнее слово, неизменное и неотменимое, как своего рода «заклепка» черного заговора, окончательно проясняющая всю идеологическую конструкцию текста, его, так сказать, «сверх–антониеву» цель и, наконец, тот реальный исторический контекст, в котором житие преподобного оказалось включенным в «идеологические» рамки, наиболее явно обнаруживающие себя в рамках композиции текста (начало — конец).
То, что с самого начала подчеркнуто отпадение Рима веры християнъския и преложение в латыни, что отпадение это окончательное (конечне отпаде, — сообщается в «Сказании» не без некоего злорадства), что упомянуто имя папы Формоса, столь частое в полемической литературе того времени, и «предание святыхъ отецъ седьми соборовъ», что вводится мотив изучения юным Антонием «всех писаний греческа языка») и т. п., — все это с несомненностью отсылает ко времени после Флорентийского (Феррарско–Флорентийского) собора, претендовавшего на то, чтобы быть восьмым Вселенским собором, и принявшего решение об унии католической и православной церквей, подписанное и митрополитом Исидором, но с возмущением отвергнутое русской церковью и восточными патриархами (кроме Царьградского), и, более конкретно, к периоду становления идеологии «Москвы — третьего Рима», сформулированной наиболее отчетливо монахом Елеазарова Псковского монастыря Филофеем в третьем послании к дьяку Михаилу Григорьевичу Мунехину (1523–1524?). Но в «Сказании» в центре стоит не Москва как преемница былой «римской» славы и «римских» властных прав (она вообще здесь не упоминается), а Рим в его «конечном» падении, его теперешней ложности и богомерзкости, но и угадываемые отчасти, хотя и довольно прикровенные (sapienti sat!) претензии Новгорода на наследие старого и благого Рима, на преемство, по меньшей мере на давние связи с Римом (можно вспомнить о «латинских» соблазнах в истории Новгорода, о большей открытости Западу вообще и «римскому» в частности, о восторженной встрече населением Новгорода и Пскова митрополита Исидора, направлявшегося на Флорентийский собор, реальные связи Новгорода с Италией, в определенный период превосходившие московско–итальянские связи).
Вероятно, Нифонт, контролируя составление «Жития» Антония Римлянина и, возможно, сам расставляя окончательные «антиримские» акценты, полагал основную идейную задачу в этой антиримской, антикатолической, антипапской направленности и считал, что фигура Антония Римлянина, пострадавшего от нечестивых и богомерзких «латинян», но нашедшего в Новгороде приют и покой и, более того, процветшего здесь в своей святости, весьма подходяща для использования ее в этих церковно–политических целях. Действительно, оформитель окончательного варианта «Сказания», который располагал скорее всего определенными предварительными блоками записанного текста, имевшего своим источником предание, молву, и который ответствен за хронологически поздний, последний по времени слой текста, проделал существенную, очень тонкую и, кажется, до сих пор не оцененную по достоинству работу синтетического характера. Он попытался соединить (и сделал это весьма искусно, хотя все–таки не без видимых швов, заметных, однако, не «естественному» читателю, но исследователю, в чьем распоряжении находятся исторические данные, почерпнутые из иных нежели «Сказание» источников) довольно ограниченные сведения об Антонии, основателе монастыря Пречистой Богородицы в Новгороде в первой половине XII века, со «злобой дня» века XVI. От XII века составитель взял все