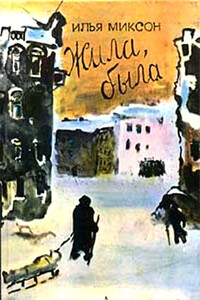Алхимов с трудом отлепился от сосны и побежал вдоль опушки, ища лазейки. Спасти, перетащить хотя бы одного-двух товарищей!
Роща наполнялась, разбухала выстрелами, свистом, цоканьем. Вступали немецкие автоматчики. Укрываясь за деревьями, Алхимов пускал веером короткие очереди. Та-та-та-та! Перебежка. Та-та-та! Перебежка. И опять нажал на спуск. Тат! — прозвучал одиночный выстрел.
Он не сразу понял, что кончились патроны. Отъединил диск, встряхнул, стукнул кулаком. Пусто!
За оголенными стволами, в курчавом дыму плыло, словно привидение, большое и темное. Поздно, безнадежно поздно что-то решать. И для себя уже ничего не сделать. Даже «с музыкой» не умереть. Ни гранат, ни патронов.
Враг обложил его с трех сторон и выгонял, безоружного и беззащитного, на открытую последнюю дорогу.
Алхимов ринулся на капустное поле.
Танки уже вышли из-за рощи. Те, что справа, заслоняли пулеметы на холме. Сами же танкисты не стреляли, уверенные: и гусеницами управятся.
Солнце скрылось. На землю хлынула фиолетовая тьма, а над горизонтом еще пылало зарево, поджигая кудели облаков в невинном розовом небе. Но внизу, под ногами, вилки капусты подстерегали, как шаровые мины.
В клубах лилово-оранжевой пыли ревели, фыркали, лязгали — настигали все живое ненасытные чудовища. От них не было спасения, будто в дурном и страшном сне, когда ни крикнуть, ни защититься, ни удрать. Душа, разум сигналят тревогу, а тело — парализовано, умерло до смерти. Как иссохшая на корню сосна, что стоит еще в полный рост, и зеленое оперение на вершине, но уже не дерево, мумия сосны, мертвый столб. Душа умирает раньше тела.
Блестящие металлические гусеницы подминали все, что лежало, росло, бежало, ползло, пыталось спастись. За скошенной кормой, как из спаренных дьявольских мясорубок, в два фонтана летело зеленое и розовое крошево. Алхимов бежал, по-заячьи косясь по сторонам. Он увидел танк с ягуаром.
Черный ягуар с разинутой красной клыкастой пастью медленно, с садистским упоением гнал перед собой долговязого солдата. Тот уже несколько раз падал, но ягуар ждал, пока несчастная жертва опять поднимется в тщетной надежде вырваться из стальных объятий смерти.
Алхимов остановился на полном бегу и закричал, не помня себя:
— Сволочи! Гады!
Леонтьев, схватившись за грудь, опять упал. Затем привстал на колени и поднял правую руку, как бы прося пощады. Он бился и корчился в кашле, словно в рыданиях. Может быть, он и в самом деле плакал.
Танк с черным ягуаром накрыл Леонтьева, застопорил гусеницы и круто, под прямым углом, развернулся на Алхимова.
Он бежал, петляя и прыгая, перескакивая пухлые и скользкие кочаны, ощущая спиной, затылком, сердцем, рвавшимся из груди, — всем существом ощущал настигающий его танк с багровыми траками гусениц. Казалось, острые белые клыки уже вонзились в плечи.
Сердце пресекло дыхание, билось в горле. В глазах и сознании кружилось, плыло, мутилось. Легкие, распирая грудную клетку, несли вперед, ноги же будто волочились, как невыбранные якоря, и цеплялись, сдерживали. Живая душа стенала и рвалась из хрупкого тела в небо, на светлый бесконечный простор, прочь от размозженного капустного поля, от всей жестокости, бесчеловечной жуткой невыносимости.
За последней грядой поле вдруг надломилось, пошло уклоном. Спасительная река была уже близко, когда нога подвернулась, скользнула на палых листьях, и Алхимов с маху врезался плечом в землю. И было уже не оторваться от нее. Ни сил, ни мгновения на это. Он покатился, извиваясь, отталкиваясь руками, ногами, лопатками, хрипя и екая, как загнанная лошадь. Но стальные зубья ведущих колес перематывали конвейерную ленту смерти быстрее, чем откатывалось в нечеловеческом отчаянии живое тело. Еще полкорпуса, и танк вдавит его с капустным хрустом в податливую землю.
Внезапно танк затормозил и остановился. Качнулся по инерции вперед, обратно осел на корму. То ли потерялась в рамке триплекса цель, то ли блеснула в глаза река золотыми всплесками и водитель потянул на себя рычаги фрикционов. Танк остановился, облако пыли накрыло Алхимова, он перекатился раз, другой — и полетел.