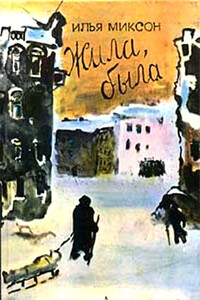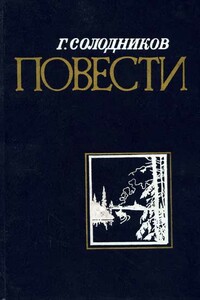До самого отъезда лейтенант Миронов ночевал в доме Шуры. Он по-прежнему тайно любовался ею, верил и не верил, что узнал такую красивую, женственную, но первая и единственная ночь их близости осталась единственной и последней. Шура все так же проявляла к нему доброе внимание, заботилась и разговаривала ласковым голосом, а по ночам, когда лейтенант, намаявшись за день на стройке памятника (теперь там работала бригада), спал крепким, непробудным сном, Шура облокачивалась голыми руками на стол и подолгу горько и безутешно плакала.
Домик стоял на окраине, ближе других к ущелью. Но лейтенант не потому не уходил от Шуры. Как ни скуден тыловой офицерский паек, но он богаче и разнообразнее продовольственных карточек работницы и ребенка. Каждый день, прожитый одной семьей, был сытым днем.
На открытие памятника собрался на митинг весь город, все, свободные от смен и дежурств. Больше других было женщин, одиноких и с детьми. Говорились речи, играл оркестр.
Лейтенант держался в сторонке, не сводя глаз с горящей золотом латунной доски на обелиске из обломка скалы. Губы лейтенанта беззвучно шевелились, повторяя тридцать одно имя, отлитое на металле.
Митинг кончился, черная густая толпа потянулась к выходу из ущелья.
— Постоишь еще? — спросил капитан Федотов.
— Постою, — сказал лейтенант.
— Тогда я поехал.
— Хорошо.
У братской могилы остался лейтенант. И Шура. Сына она отправила с соседкой на грузовике.
— Едете? — первой нарушила молчание Шура.
— Сегодня.
Она подняла на лейтенанта грустные, сухие глаза.
— Извините, коли что не так.
— Что вы, Шурочка, что вы! — впервые ласково назвал он ее.
— Вроде мы и не муж с женой, — сказала она растерянно, — а как вдовой остаюся. Второй раз вдова.
Подавила растерянность, мягко положила ему на плечи свои красивые руки.
— Храни тебя бог. — Шура трижды поцеловала его в губы, затем, отступив на шаг, задумчиво произнесла, не для него, для себя: — Может, свидимся еще…
Он неопределенно пожал плечами. Она поняла: этого никто не знал, не мог знать. Губы Шуры задрожали, круто повернулась, быстро пошла, затем побежала, низко опустив голову. Вскоре она догнала последние ряды людей и слилась с ними.
Лейтенант почувствовал, что теряет что-то дорогое, но не сдвинулся с места.
Он постоял еще, поправил свежие цветы у подножия обелиска со звездой.
— Ну вот, — сказал вслух. — Пока все…
Почему «пока», он и сам не думал, но знал: того, что сделано, — мало для памяти солдат в братской могиле. И лейтенант повторил:
— Пока все.
1
Командир не мог ни перерешить их судьбы, ни обещать посмертной славы. Не мог и права не имел обманывать свою и как бы уже не свою роту. Он требовал одного: связать противника на сутки, дать полку время переправиться через Оредеж, отойти на север, занять подготовленный рубеж обороны и закрепиться на нем.
— Дальше отступать некуда. Дальше — Гатчина, Пушкин. Дальше — Ленинград. Буду счастлив, лейтенант, за тебя, за каждого бойца, кто вернется. Но до завтрашнего дня приказываю выжить. И весь завтрашний день.
Прожить до вечерней зари, ни часа меньше. Больше — как повезет, что кому выпадет. Потом они свободны от его приказа, от жестокой необходимости. Командир полка и сам не верил в чудо и с затаенной болью мысленно причислил роту заслона к безвозвратным потерям. Завтрашним.
— Прошу вас, — заключил уже тихо, виновато и печально заглядывая в глаза ротному лейтенанту и его замполитруку, такому юному на вид, что сердце щемило. — Прошу вас…
Рыхлый туман затопил ничейную лощину, заполнил воронки, разлился по окопам и траншеям. Ноги тонули в молочной гуще. А над смутным горизонтом уже румянилась нездоровая дымка, и песчаный, выложенный дерном бруствер и возвышенная окрест земля выпаривали предрассветную сырость. Солнце еще не показывалось за щербатым лесом, но все предвещало тяжелый знойный день. Недвижный воздух теснил дыхание.
— Ну и лето выдалось, — негромко пожаловался в пространство сержант Егоров. Он смотрел в небо запрокинув голову и придерживая рукой пилотку.
Алхимов тоже посмотрел вверх. Бледная, похожая на истаивающий ледяной круг луна чудилась последним и единственным, что могло дать живительную прохладу обморочной от бездождья земле. Казалось, что война в первые, самые ошеломляющие и потому особенно ужасные месяцы исковеркала и загубила не одни лишь миллионы людских судеб. Исказила самое естественное течение природы.