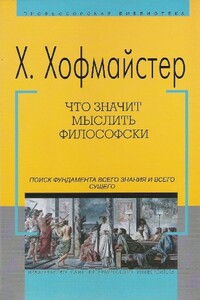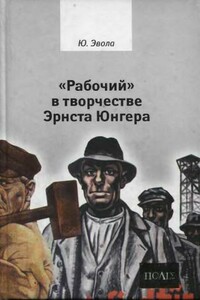Священное - страница 43
2. Впоследствии эти моменты у Лютера замалчивались и исключались, а сегодня их охотно объявляют «апокрифическими», считают «схоластическим остатком номиналистических спекуляций». Удивительно только то, что этот «схоластический остаток» настолько завладел душевной жизнью Лютера. В действительности, речь идет не о каких-то «остатках», но о том, что без всякого сомнения являлось совершенно оригинальным и в то же самое время совершенно личностным фоном его набожности — таинственным, темным и чуть ли не жутким. Тогда лучше видны блаженство и радостная вера в благодать, вся глубина которой может быть верно оценена лишь на этом фоне[84]. Откуда бы к нему ни приходили стимулы — от «номинализма» или от доктрины ордена, к которому он принадлежал, — речь должна идти о пробуждении самого нуминозного чувства, изначально владевшего его душой (в тех моментах этого чувства, с которыми мы уже познакомились).
а) Мы отвлекаемся здесь от многих оттенков набожности Лютера, связанных с мистикой — поначалу сильно, затем слабее, хотя связь эта не исчезала никогда. Мы отвлекаемся также от остатков нуминозности католического культа с его доктриной причастия, которая не выводима ни из учения об отпущении грехов, ни из буквализма. Обратим внимание только на mirae speculationes по поводу «сокрытого» в Боге в отличие от facie Dei revelata; на divina majestas и omnipotenta Dei по контрасту с его gratia в «De servo arbitrio» Лютера. Нам мало что даст выяснение того, насколько он заимствовал эти «доктрины» у Дунса Скота. Зато они теснейшим образом связаны с его интимнейшей и личной религиозной жизнью, они изначально и подлинно из нее проистекают, а потому должны рассматриваться как таковые. Он сам об этом свидетельствует, подчеркивая, что он учит этому не ради спора школ или философских уточнений, но потому, что эти предметы принадлежат самой христианской набожности, и знать их следует ради веры и жизни. Он отбрасывает умную предусмотрительность Эразма, считавшего, что все это нужно, по крайней мере, утаивать от «народа»; Лютер учит этому в публичных проповедях (на вторую книгу Моисея), пишет об этом в письме жителям Антверпена. До самой смерти он держится сказанного в «De servo arbitrio» и признает сказанное по праву ему принадлежащим.
Правда, в большом «Катехизме» он говорит: «Иметь Бога, значит доверять ему всем сердцем»; Бог тут совпадает «с чистым благом». Но тот же Лютер знает разрывающие сердце глубины и бездны божества, перед которыми он «словесно» клянет таинство отпущения грехов, утешительные речи д-ра Поммерануса, равно как и всякое утешительное и обещающее слово, любое promissio в «Псалмах» и у пророков. Но то жуткое, перед которым он раз за разом божится, выдавая тревожное содрогание своей души, не сводится к одному лишь суровому судье. Последний также относится к «несокрытому Богу». Но Он является в то же самое время и «сокровенным» в пугающем величии своего божества: перед ним содрогается не только преступивший закон, но и всякая тварь в своей «нагой» тварности. Лютер даже решается назвать эту пугающе-иррациональную сторону Бога «deus ipse», «ut est in sua natura et majestate». (В действительности, это положение опасно и ложно, ибо иррациональная сторона божества не настолько отходит от рациональной, притом так, словно первая ему более присуща, чем вторая!)
Подобные места из «De servo arbitrio» достаточно часто цитируются. Приведу соответствующее место из проповеди на вторую книгу Моисея (Исх. 2.20), где нуминозное чувство обретает чуть ли не демонические черты. Лютер и не старался их смягчить:
Да, миру кажется, будто Бог — просто какой-то болтун, который лишь разевает рот, или словно он какой-то рогоносец, тот добрый муж, что позволяет другому спать со своей женой и делает вид, будто этого не замечает…