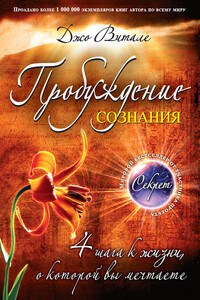С другой стороны, вся наша история, особенно история многочисленных войн, показывает эффективность обращения к этой части Русского тела ("пусть ярость благородная вскипает…"). Не важно, что ценой десятков миллионов жизней, а мы бы сказали и подчеркнули — смертей (опять тема СМЕРТИ!). И это зачастую произносится чуть ли не с гордостью, как своеобразное достижение![6]
Подведем итог. Данная статья не претендует на законченность. Это — взгляд, видение. В основе этого видения — собственный опыт деятельности психолога-консультанта, практикующего телесно-ориентированного психотерапевта, ведущего семинаров и координатора ряда международных программ в области культуры тела (не путать с физкультурой!). Данное видение позволяет в индивидуальной работе находить объяснения особенностям строения индивидуальных тел, соответственно индивидуальных проблем и болезней; а в обыденной жизни находить объяснения и, как нам даже кажется, смысл зачастую совершенно бессмысленных (и даже бездумных) поступков наших государственных деятелей и политиков.
И, наконец, исконно русский вопрос, без которого данная статья совершенно не смотрелась бы: "Что же делать?"
Жить!
Осознавая, что происходит; в каком теле (индивидуальном ли, семейном ли или государственном) живем; какую цену за каждое действие платим; в чем смысл того, что имеем.
Лакан считал лицо самым изменчивым из существующих объектов. Это своего рода вечный двигатель, обладающий собственным ритмом и неуловимой формой. Это сцена, где нос, глаза, брови, рот исполняют каждый свою партию. Здесь царит закон переменной бесструктурной логики, связывающий воедино движение, покой и различную скорость изменений.
Однако та самая изменчивость, которая делает почти невозможным точное словесное описание и даже точное запоминание лица, не исключает определенной стабильности черт, признания их идентичности. Встречая друзей после долгой разлуки, мы говорим: "А ты все такой же!" или: "Боже, как ты изменился!"
Этот парадокс издавна будоражил мысль западного человека; с древних времен делались попытки описать и объяснить признаки, по которым происходит узнавание. Первые физиогномисты сосредоточили свои усилия на выделении постоянной и неизменной сущности, скрытой за вечно меняющимся выражением лица.
Физиогномика — от греческого physis (природа) и gnomon (толкование) — означает "узнавание, толкование природы". Однако Джованни Баттиста делла Порта подчеркивал, что gnomon значит так же "закон, правило", т. е. физиогномика — это закон природы. По словам делла Порта, следуя определенным нормам, законам природы, можно распознавать "определенные страсти души по определенным формам тела".
Наука, или, скорее, лженаука, физиогномика основана на допущении, что тело и душа, внутреннее и внешнее неразрывно связаны между собой. Аристотель отмечал: "… все страсти души связаны с телом, т. к. тело подвержено значительным изменениям в присутствии страстей".
По Аристотелю, душа — это «форма», а тело — «материя». Страсти являются формами, растворенными в материи. Возьмем, например, гнев. Его можно описать как желание отомстить, а можно сказать, что в гневе "кровь закипает вокруг сердца." Описания не противоречат друг другу, это просто различные способы восприятия тела.
Линия анимальности
Де ла Шамбр служил личным врачом короля, поэтому его трактат о связи внешности человека с его моральными качествами был в основном продиктован государственными соображениями. То же происхождение имел и труд Кьяромонти, современника де ла Шамбра, в котором рассматривалась возможность разоблачить, с помощью телесных проявлений, самые сокровенные тайны, скрытые за словами.
В 17-м веке суд и инквизиция считали, что через тело можно установить истину. Поэтому физиогномика стала методом добывания неоспоримых доказательств, раскрытия секретов Навязчивая тяга к классификации и составлению каталогов отражала дух времени; в 19-м веке эта навязчивость переросла в настоящую паранойю.
"Обществу и государству необходимы животные характеристики для классификации людей; естествознанию нужны характеристики, чтобы классифицировать самих животных". Этот механизм перекрестной идентификации продолжал действовать не только в физиогномике, но и вообще в физиологии. На более глубоком уровне теоретические допущения, судя по всему, не изменились. "Между архетипами и их символическими структурами достигнуто много компромиссов".