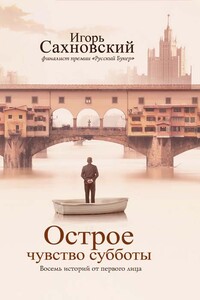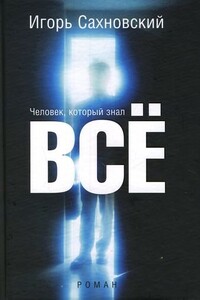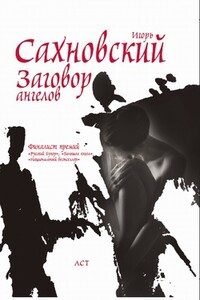– Давай я сниму с тебя стрекозу?
– Ещё чего? – ответила Роза.
Вечером того же дня, воспользовавшись отлучкой Розы, Сидельников достал из выдвижного ящика этажерки чернильницу, школьное перо на деревянной ручке и пачку открыток, среди которых отыскалась одна чистая, неподписанная. На её лицевой стороне был изображен чей-то мощный кулак, сжимающий связку цветов, а внизу туманное пояснение: «Мир. Труд. Май».
Он примостился на краю стола, поковырял пером чернильницу и на оборотной стороне открытки старательно вывел первое слово:
Немного подумав, он так же старательно зачеркнул это слово и слева сверху написал:
«Дорогая» вышла как-то косо, зато последующие строки двигались уже стройнее:
Поздравляю тебя с днём рожденья. Желаю тебе ничем не болеть, быть весёлой и дожить до…
Тут Сидельников задумался. Ему не нравилось написанное, но зачеркивать больше не хотелось. Подсохшее перо стало похоже на спинку золотого жука.
Так. «Дожить до…» Он вдруг ощутил себя носителем бесконечной щедрости и, на секунду задумавшись, вписал в поздравление почти фантастическую дату:
Переполненный добрыми чувствами, Сидельников обвёл пожирнее завершающий восклицательный знак, помахал открыткой по воздуху и понёс её через коридор к почтовому ящику, висящему на входной двери.
Дело было сделано. Вернувшись в комнату, он сразу подошёл к окну: Роза, живая, весёлая, ничем не больная, стояла посреди двора и беседовала с чокнутой рыжей Лидой. Слов не было слышно. Лида в тот момент могла показаться важной дамой, если бы не чесала то левой, то правой рукой засаленный низ живота.
Истекал август неповторимого одна тысяча девятьсот шестьдесят четвёртого. Месяц назад Сидельникову пошёл седьмой год. Розе через два дня исполнится пятьдесят. Жить ей останется ровно одиннадцать лет.
Враг наступал непрерывно – то пешим, то конным строем, и только благодаря своему огромному мужеству Сидельников отбивал одну атаку за другой. Он лежал на животе в окопе уже целых полчаса. Плечи и ноги затекли, но он продолжал отстреливаться.
Приближался новый отряд. Это, конечно, снова были татары. Для устрашения Сидельникова они наголо выбрили себе головы, размахивали плётками и кричали «ура!» по-татарски. Им нужно было только одно – взять в плен Марию, чтобы насильно усадить её на коня и отвезти в гарем хану Гирею. Там, в гареме, хан сможет всячески разглядывать и даже трогать её красоту – опять же насильно. Так бы оно всё и произошло. Если бы не Сидельников.
Мария лежала рядом с ним, потеряв сознание от страха. Она была совершенно беспомощной и такой маленькой, что умещалась на краю кушетки, то есть окопа, между дерматиновым валиком и локтем своего спасителя. В самый разгар боя, охрипнув от громких автоматных очередей, он успевал иногда приласкать Марию, нависая могучим телом над её беззащитным тельцем. При этом Сидельников сам вдруг становился немного ханом Гиреем, похожим на чёрного орла. И хотя Мария лежала в полном беспамятстве да и вообще была невидимой, он-то, Сидельников, в эти минуты был очень даже видимым и потому слегка опасался, что девушка заметит странную раздвоенность в его поведении и совсем уж неуместное, стыдное напряжение под заштопанными тесными шортами.
Несколько дней назад сидельниковские родители, вечно занятые если не работой, то выяснением тяжёлых отношений друг с другом на почве несходства характеров, внезапно ненадолго помирились, вспомнили про своего Гошу-полудурка и даже удосужились на один вечер забрать его от бабы Розы, тоже, впрочем, полудурковатой, чтобы взять с собой в Дом культуры машиностроителей на «Бахчисарайский фонтан» – постановку заезжей балетной труппы. Такие выходы случались раз в несколько лет, а для Сидельникова – и вовсе впервые. Так что было отчего волноваться, наступать взрослым на туфли и задавать глупые вопросы. Его резко одёргивали, но он и сам чувствовал: вся эта праздничность, чёрное в белый горох платье мамы, её улыбчивая нервозность, остро-приторные волны «Красной Москвы», накрахмаленные манжеты и редкое благодушие отца – подарки роскошные, но никак не заслуженные и, уж конечно, – не насовсем.