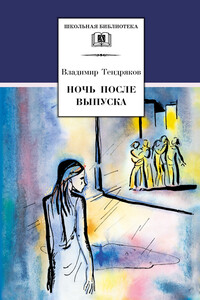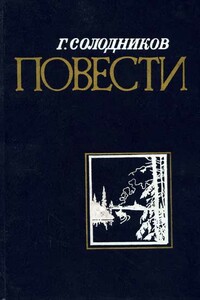Федор Матёрин — счастливое исключение. Он бросил окурок и встал. Он решился — на это ушло каких-нибудь десять минут, одна папироса.
Он совсем забыл о бомбе. Лицо в веснушках девочки-матери и атомная бомба — вещи, не умещавшиеся одновременно в одной голове.
Федор не догадывался, что ударная волна этой бомбы пройдет через миллионы газетных листов, книжных страниц, через тысячи километров кинематографической пленки, тронет в свое время и его холсты.
4
Знакомый подъезд, знакомая вывеска — Федор толкнул дверь.
Четыре с лишним года назад навстречу ему встал плечистый сторож в фуражке, надвинутой на глаза, сейчас тощая женщина с равнодушным, стертым лицом на вопрос: «Как увидеть кого-нибудь из приемной комиссии?» — нехотя кивнула головой в сторону лестницы.
— Там.
Сдерживая зуд в ногах, ощущая, как колотится в груди сердце, перемахивая через две ступеньки, бросился вверх.
Полутемный коридор, дверь вдоль стен, паркет громко скрипит под сапогами, и прежний запах масляной краски, музейной пыли…
Возле дверей кучками жмутся молодые ребята — пестрый народ: щегольские куртки и не слишком чистые рубахи-ковбойки, отутюженные костюмы и такие же, как на Федоре, гимнастерки, головы расчесанные, головы всклокоченные, сдержанный галдеж. Никто не повернулся к Федору. В этот день храм искусства выглядит по-вокзальному.
Быстро-быстро просеменила секретарского вида девица.
— Где приемная комиссия? — крикнул ей Федор.
Дернула затейливой прической:
— Там… Дальше.
Навстречу решительно вышагивает человек: темно-серый костюм, галстук, держится подчеркнуто прямо, но одно плечо опущено, другое вздернуто, левый рукав пиджака не обмят, в мертвых складках, на руке черная перчатка — руки нет, носит протез.
Человек приблизился, и Федор увидел узкое лицо, лоб с залысинами, энергичный горбатый нос, выдающуюся вперед толстую нижнюю губу.
— Простите, — остановил его Федор.
Встречный окинул острым взглядом гимнастерку, погоны, лицо Федора, сказал:
— Вам приемную комиссию? Следующая дверь направо.
— Я хочу поговорить с вами.
— Извините… Спешу.
Федор решительно загородил дорогу:
— Вы не помните меня?.. Помните двадцать второе июня сорок первого года?
Человек удивленно, недоверчиво, как петух перед просом, склонил набок голову.
— Помните, как вы узнали о начале войны?
Человек нерешительно пошевелил плечом, на котором висел протез:
— Как видите… Хотел бы, да не забуду.
— Помните, с кем вы тогда разговаривали?
Молчание. Темные запавшие глаза ощупывали Федора.
— Так это — вы?
— Да.
— Пойдемте.
Тот же номер двери, та же комната, она по-прежнему загромождена мольбертом, прежнее ощущение — идет ремонт, хозяева выехали на время.
— Садитесь.
Человек коленом пододвинул рябой от засохших разноцветных мазков стул, сам сел напротив, продолжая пытливо вглядываться.
Глаза Федора бегали по комнате, по верху громоздкого шкафа, заваленного рулонами бумаги, гипсовыми муляжами.
— Где-то здесь, но вряд ли найдем сейчас в этом хаосе, — обронил знакомый.
Где-то здесь… Длинным кружным путем он шел к этой встрече по степям, источенным окопами, падал раненым, валялся на госпитальных койках, шагал по Европе… Он забывал ее, предавал память о ней, совсем потерял веру, что встреча состоится. И вот — где-то здесь, рядом, в нескольких шагах. Она, привыкшая ждать тысячелетиями, терпеливо выждала и эти четыре года. Пусть будет где-то здесь, Федор успеет ее увидеть.
Знакомый наблюдал за Федором.
— Итак?.. — сказал он.
Федор поспешно напомнил ему:
— Вы тогда говорили: в искусстве всегда будет мучить один вопрос — что есть истина?..
Знакомый усмехнулся:
— Хватит теории. На повестке дня практический вопрос: у вас есть какие-нибудь работы — рисунки, этюды, — по которым бы вас могли допустить до экзаменов?
Федор развел руками:
— Откуда?.. Я — связист, командир линейного взвода.
— Понятно… Зайдите в приемную комиссию, оставьте заявление.
— Я бы хотел съездить домой. Не видел мать и отца все это время.
— Экзамены начинаются через двенадцать дней. Успеете?
— Хватит… А работы?.. Меня не допустят без них?
— Постараюсь, чтоб допустили. Но уж ежели на экзаменах не вытянете, тогда…