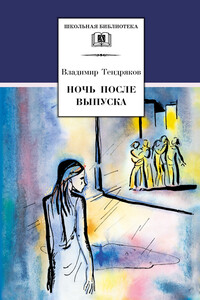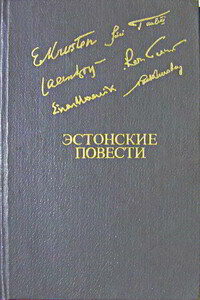Путь лежал из Судет через Европу в деревню Матёру. На пути стояла Москва.
Из деревни писали, что известие о Победе пришло на станцию вместе с ночным пассажирским поездом. Люди вываливались из вагонов, плакали, обнимались, носили на руках какого-то полковника, качали едущих из госпиталя солдат.
Платон Муха, маляр, писавший вывески, ходил в пляшущей, плачущей от радости толпе, носил в обнимку четверть самогона, держал в руке стакан, останавливал всех и предлагал:
— Ну-ка, пропусти за Победу.
И сам пил:
— Со счастьем великим, друг.
Какая-то старуха из деревни, притащившая корзину клюквы на продажу, зазывала:
— Родненькие, сюда! Родимые, ко мне идите! Касатики вы мои милые…
И сыпала стаканами мягкую, перезимовавшую ягоду в фуражки, в подставленные карманы, в бумажные кульки, каждому сообщала:
— У меня Ванюшку убило, сынка… Ванюшка мой на войне этой погиб… Люди добрые, вспомяните Ванюшку моего…
Ей пытались сунуть деньги, она отталкивала:
— Господь с вами, грех-то какой… Ванюшки моего нету, так уж вспомяните его добром…
И женщины с поезда плакали вместе со старухой о ее Ванюшке.
Если перебрать день за днем с глубокой древности всю историю России, не было счастливее дня, чем 9 мая 1945 года. Еще в самом начале войны Сталиным было сказано: еще несколько месяцев, полгода, в крайнем случае годик… Но шли месяцы, шли годы, а война не кончалась: голодные пайки, работа по двенадцать-пятнадцать часов в сутки, похоронные со свежей почтой, сводки о сдаче городов, и кажется — нельзя выдержать, вот-вот лопнут силы, но — выдержали. 9 мая 1945 года — оглянись в глубь веков — не было счастливее дня.
Федор находился в немецком городке. Этот город с окраин был не тронут, черепичные крыши торчали за кронами вековых вязов и лип. Каждое утро дома по улицам расцветали перекинутыми через окна спален пуховыми матрацами, а обыватели выходили на улицу, ловили взгляды русских военных и раскланивались:
— Гутен морген, гер официр!
С окраин город не тронут, а центр… Кучи кирпича и пепла; как гнилые зубы, торчат стены домов. В центре города уцелел лишь бронзовый памятник известному немецкому философу, имевшему честь здесь родиться. Философ сидел с раскрытой книгой на коленях, через книгу связисты перекинули телефонный кабель. Из одного штаба в другой шли по кабелю обычные армейские распоряжения, а бронзовый философ величаво и отрешенно вглядывался в этот кусок проволоки, старался понять его мировой смысл.
В центре города засели фольксштурмовцы, наспех собранные и вооруженные мальчишки, им приказали умереть, и мальчишки, воспитанные в добропорядочных немецких семьях, были послушны. Артиллерия на прямой наводке разнесла их и весь центр города, бронзовый философ-идеалист уцелел случайно.
На верхнем этаже уютного дома, где квартировал Федор, по временам раздавался рыдающий смех, смех, доходящий до судорог. Там жила взаперти фрау Хайзер, двое ее мальчиков были убиты в центре города, и она сошла с ума.
Город давно был взят, давно уже не раздавалось на его улицах даже одиночных выстрелов. Немцы вели себя благоразумно и предупредительно:
— Гутен морген, гер официр, — и старались заглянуть с улыбкой в глаза.
Но вот ночью под окном прогремела автоматная очередь, еще одна, еще, взлетела ракета, голубой яркий след окна поплыл по стенам. Федор вскочил, начал натягивать одежду и тут услышал захлебывающийся от радости вопль:
— Победа!
Кричали, обнимались, целовались, стреляли в воздух. Победа!
Старшина выкатил на средину улицы бочку вина, вышиб дно, заорал, обращаясь к темным окнам, за которыми прятались испуганные выстрелами и криками жители:
— Мир, фрицы! Эй, вылезай! Пейте! Радуйтесь! Мир!
До утра праздновали в покоях Федора. Старшина, бывший минометчик, крутошеий мужчина с изуродованной осколком щекой, пьянел и все больше удивлялся:
— А ведь выжили… Мы-то дожили, черт возьми, до этого дня!
Этот день… За спиной свист снарядов, трупы товарищей, и уже фашистские наводчики не направят в твою сторону ствол орудия, и танки с крестом не двинутся на твой окоп. Конец!.. Этот день гарантирует каждому жизнь. Что может быть святей такого дня!