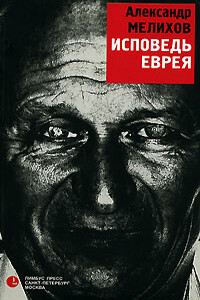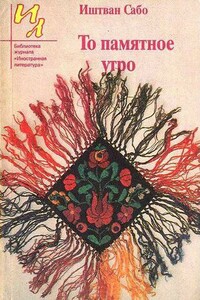Вот она сама — она когда-то уже любила человека за доброту его сердечную, хоть и голоса его не слышала. Привыкла потом и к его голосу дикому и страшному, но захотелось ей как-то взглянуть на суженого, а он принялся проситьмолить: «Не проси ты меня, чудовище безобразное, чтобы показал я тебе свое лицо противное, свое тело страшное. Как увидишь меня, страшного-противного, прогонишь ты меня с глаз долой, а в разлуке с тобой я умру с тоски». Но настояла она из упрямства глупого, а увидя, упала без памяти. Да и страшен был ее возлюбленный: на кривых-то на руках когти звериные, на мохнатых на ногах копыта конские, спереди-сзади горбы верблюжие… Но очнулась она и увидела: этот зверь противный, безобразнейший от своего-то горя прегорчайшего на траве зеленой, на муравушке рядом с нею хладен-мертв лежит. И пала она на тело милого, обняла руками голову противную, и завопила она истошным голосом: «Ты встань, пробудись, мой сердечный друг, я люблю тебя как жениха желанного!..» И только таковы слова она вымолвила, как заблестели молнии, со всех сторон, затряслась земля от грома великого, ударила громовая стрела каменная в пригорок муравчатый, и слетели с ее друга заклятья проклятые, и предстал перед ней красавец писаный. Обезумевши от счастья да от радости, она белкою на шею ему кинулась, но красавец тот, как жабу, оттолкнул ее: да ты что о себе такое вздумала, посмотри-ка
на себя ты лучше в зеркало — мне с тобою показаться будет совестно!
Зато принц, уставший от лицемерных придворных и слащавых красоток, — тот по уши влюбился в разбитную стряпуху с ногами сорок третьего размера и, чтобы разыскать ее, разослал по всей стране придворных с потерянным ею резиновым сапогом. Однако сапог ни на одной из девушек не мог удержаться, и только самый мудрый звездочет наконец догадался, что Золушка носила его с портянкой поверх шерстяных носков. Но однажды на дипломатическом приеме у заморского короля принц взглянул на туфли своей супруги, и его аж передернуло: да это ж какие-то не ноги, а лыжи!...
Но вот лишенный глаза юноша, вечно печальный и скромный среди вечно наглых и развязных братьев, — в нем-то уж точно есть что-то не от мира сего, он уж точно не предаст… И Юля уже опасалась встретиться глазами с его единственным глазом, чтобы он не прочел в ее взгляде той нежности, которая с каждым днем накипала в ее груди. Но когда Витя бросил школу и пошел работать на мелькомбинат, она все-таки решилась спросить у отца, как там Витя. Ничего, старается, до обидного рассеянно ответил папа, но тут же ожил: «Ты знаешь, он иногда на предприятии ночевать остается, дома у парня, получается, нет… Это не дело! И охрана ругается, и вообще… Надо на профком будет наехать».
Акдалинский Элеватор наверняка был побольше собора Парижской Богоматери — одни лишь возносящиеся в необозримую вышину силосные башни заставляли притихнуть. Только бы слова для них найти покрасивее, а то силосные, подсилосный зал, зерносушилки, нории… Но когда Юля начинала представлять в ночном Элеваторе Витю, ее внутренним глазам сразу же открывались зигзаги наружных лестниц, уходящие на невообразимую высоту, — конечно же, Витя забирался повыше, к птицам, подальше от крыс, ему, как и Квазимодо, был открыт любой уголок исполинского сооружения. Превратившись в доброго духа Элеватора, Витя сделался еще более манящим. Но однажды перед фильмом «Битва в пути» в гулком вестибюле «Сорока лет Казахстана» он вдруг сам к ней подошел, и его единственный глаз смотрел бодро и уверенно: слушай, твой батя такой классный мужик, он мне общагу пробил, слушай, такой класс, в комнате всего четыре человека, у каждого своя кровать, на пружинах, байковое одеяло, подушка, все как у людей!.. Он был румяный с мороза и наряжен в какой-то полупердончик с воротником тусклого искусственного меха, дешевой подделкой под моду «золотой молодежи», и Юля с болью почувствовала, что в поношенной и тесноватой школьной форме он нравился ей куда больше…
Одеваться нужно или уж в шелка, или — или не обращать на себя внимания. А в последнее утро перед последней школой она встретила Витю выходящим из универмага под руку с какой-то белобрысой хрюшистой старухой лет под тридцать. Увешанные пухлыми свертками, потные и возбужденные (Витя ее даже не заметил, хотя за это время успел вставить восторженно выпученный глаз), разряженные по последней плебейской моде, они, будто из храма, торжественно спустились по ступенькам и,