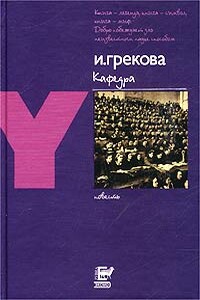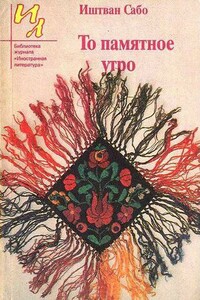Звонки, звонки… Гости собирались.
«Как это она всегда знает, что нужно? — думал Костя. — Кому что сказать, куда посадить, что спросить? Я этого не знаю. Мне не хватает настоящего ума. Ум — это знать, что к чему».
Он здоровался, здоровался, а гости все шли.
Вот и Иван Михайлович. Он переоделся в черную пару — даже не в пару, а тройку с жилетом. От него пахло нафталином и парикмахерской. В обеих руках он нес большой букет пионов и преподнес его Надюше:
— В вашу честь.
Она даже руками всплеснула:
— Спасибо! Красота какая!
Где-то раздобыла вазу (Костя и не знал, что у него есть ваза) и поставила цветы в центр стола.
— За стол, пожалуйста, — сказала Надюша.
Вечер складывался удачно: все как-то сразу сели, не чинились, не церемонились, сели, заговорили.
В те первые послевоенные годы люди еще не успели привыкнуть к хорошей еде. Накрытый стол с розовой колбасой, желтым сыром, светлым сливочным маслом сам по себе был картинкой.
— Натюрморт, — сказал, садясь за стол, Николай Прокофьевич.
Все были веселы, Надюша — прелесть, Костя был счастлив.
Директор института встал.
— Товарищи, — сказал он, постучав ножом по бутылке. — Налейте бокалы! Разрешите мне поднять тост за того, которому мы все обязаны нашими достижениями. За величайшего полководца всех времен и народов, корифея науки, любимого и дорогого учителя и вождя — товарища Сталина! Ура, товарищи!
«Ура» прозвучало довольно нестройно. Все густо зашевелились, встали, потянулись друг к другу рюмками.
…Каждый чокнется с каждым. Сколько это будет раз? Число сочетаний из «n» по два. Чему равно «n»?
Здесь, кажется, двадцать пять человек. Двадцать пять на двадцать четыре, поделить на два — триста. Триста чоканий. Каждый с каждым. Пропустить нельзя.
Когда Косте было неловко, он всегда начинал считать.
Отчокались. С облегчением сели, выпили, зажевали, заговорили.
Скоро стало совсем шумно. Люди быстро пьянели — не столько от вина, сколько от хорошей еды.
— Нет, вы подумайте, друзья, — сказал Николай Прокофьевич, — если бы нам показали такой стол четыре года назад!
«Какие все милые, — думал Костя, — какие веселые».
Поднялся Юра.
— За нашего товарища. За моего друга. За нового кандидата наук Константина Левина. И пусть ему всегда будет так хорошо, как сегодня.
Костя встал. Другие тоже встали, потянулись к нему рюмками. Кто прямо через стол, кто с обходом. Фу-ты черт, глупый обычай, а трогает до слез. Юра взял его за отворот пиджака и поцеловал:
— Кажется, первый раз в жизни.
Подошел Володя. Вино в розовой рюмке вздрагивало.
— Константин Исаакович! Вы даже не знаете, что вы для меня сделали!
— Глупости, Володя! Что я такого для тебя сделал?
— Вы смотрели на меня как на человека.
Николай Прокофьевич тоже подошел — нарядный, но нестриженый. Крахмальная манишка — горбом на груди.
— Странный обычай — чокаться, не правда ли? Откуда он возник? Никогда не встречал в литературе.
— Не знаю, Николай Прокофьевич. Не все ли равно? Чокнемся!
— Ну, ученого из вас не выйдет. Ученому не может быть все равно.
— Что поделаешь? Видно, не быть мне ученым. Останусь так. Чокнемся, Николай Прокофьевич! Можно вам налить?
— Да уж налейте.
Костя взялся за бутылку. Николай Прокофьевич взвизгнул:
— Ах, что вы делаете?
— А что? — спросил Костя.
— Вы наливаете через руку. Как это можно?
— А почему нельзя?
— Юноша, вы очень необразованны. Надо бы знать, что через руку наливают только палачу.
— Вот не знал. Откуда бы мне это знать?
— А я откуда знаю? Читать надо, книжечки надо читать, молодой человек. Эх, поколение! Так и быть, чокнемся.
Вот и еще кто-то подошел с рюмкой: Надюша. Костя увидел сверху ее чистый, девичий пробор и поднятые к нему спокойные глаза.
— За ваше счастье, — сказала она.
— За ваше, — ответил Костя.
На минуту эти два счастья соединились. Тут слово взял Иван Михайлович:
— Разрешите мне от лица, так сказать, соседей и жилуправления. От лица актива. За прелестную хозяйку этого дома!
Юра кинул вопросительный взгляд. Костя покраснел, замотал головой: «Нет, нет». Гости зашуршали: «Как? мы и не знали! давно?» Надюша встала.
— Это ошибка, — сказала она без тени смущения. — Я не хозяйка. Меня попросил Константин Исаакович похозяйничать здесь только один день. И я охотно согласилась.