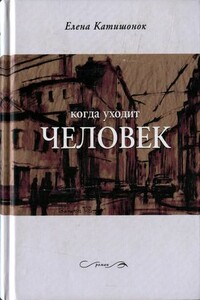Однако квартира № 11 встретила такими новостями, что ни мать, ни Сержант не стали пилить ее за позднее возвращение и, похоже, забыли про табель.
И не удивительно: пришло письмо от матери Сержанта!
Такие истории описывались в газетах, о них рассказывали по радио: люди, потерявшиеся во время войны, находили друг друга. Мужчина-диктор говорил мягко и задушевно, а потом в микрофон врывался заполошный, растерянный женский голос: «…я уже потеряла всякую надежду».
Таисия с мужем сидели за столом, выхватывая друг у друга из рук листок; рядом лежал разорванный конверт. Ленечка медленно перекапывал в тарелке манную кашу. Самое время было «заткнуться в угол», что Олька и сделала, тем более что «Отверженных» пора было возвращать в библиотеку.
– Нет, с ума сойти, честное слово! С ума сойти! – восклицала Таечка.
Убедившись, что это относится не к ней, Олька пыталась вернуться к «Отверженным», но читать не получалось. Это не радиопередача – это происходит прямо здесь, уже произошло, потому что пришло письмо из Кременчуга, так всех взбудоражившее, что мать повторяла свое «с ума сойти», а Сержант сидел с глупой растерянной улыбкой.
…Было от чего сойти с ума, но такое редко происходит с людьми от радости. А вот как женщина, отлучившаяся на вокзале за кипятком, не сошла с ума, когда вернулась с этим чертовым кипятком и нашла у вагона с эвакуированными только дочку, а пятилетнего сынишки нигде не было? Как она не бросила чайник, не завыла, не кинулась его искать, волоча за собой ревущую девчонку, всего-то шести лет от роду, как она не сошла с ума от горя?.. Или так все и было: завыла, метнулась искать по всему вокзалу и наверняка упустила свой поезд? А что было дальше, приоткрылось только сейчас, хотя продолжалось двадцать лет.
«Я, Володенька, еще проклятая война не кончилась, как во все детские дома писать стала. Что пять лет, мол, тебе было, и с какого вокзала ты потерялся. Фамилия, говорю, ему Лазаревич, и что ты знал, как тебя зовут, и маму, и сестричку Мусю – помнишь Мусю, Володенька? Тебе сейчас двадцать шесть, а Мусенька на год тебя старше… Мы ведь не знаем даже, как ты сейчас выглядишь, а маленький на папу был похож. И в каждый детдом я твои детские фотокарточки отсылала…»
Шла в фотоателье, доставала из сумки старую фотокарточку с обломанными уголками, просила – в который раз! – переснять. И рассылала, рассылала, рассылала. Наверное, приходила в одно и то же место, где приемщица давно ее знала и ни о чем не спрашивала: выписывала квитанцию и засовывала драгоценную фотокарточку в ящик. Сколько таких квитанций скопилось? Ведь она их не выбрасывала, суеверная женщина, не могла выбросить.
«Потом, Володенька, я про Ташкент узнала, что тебя в тамошний детдом отправили. Приезжаю, а мне говорят: у нас, мамаша, двое было: один Лазуркович по фамилии, а другой Лазаревич, как вы запрашивали. Что вокзал донецкий, нам ничего не дает, потому как детей к нам из распределителя присылают. У меня, Володенька, сердце зашлось, а тут бумагу приносят, что Лазаревич Владимир окончил семилетку и что тебя отправили в музыкальное училище: талант у тебя к музыке. Фотографию мне заведующая показала, у ней под стеклом лежит. Я смотрю, а слезы так на стекло и капают, так и капают; не вижу ничего. Узнала тебя сразу: какой же ты красивый, Володенька, и вылитый папа».
Все это время Олька сидела неподвижно, но в этот момент чуть не расхохоталась. Сержант – красивый! Она незаметно посмотрела на сидящих и вздрогнула: Сержант плакал. Обильные слезы лились по беспомощному покрасневшему лицу, он собирал их пальцами в уголках глаз, словно пытаясь вдавить обратно, но слезы продолжали течь и неслышно падали на скатерть. «Как у той… как у его матери, когда на стекло», – Олька опустила глаза в книгу: «ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. Последствия торжества». Мужчина за столом всхлипывал громко, как ребенок; потом закашлялся, с сипеньем и хлюпаньем, всегда сопровождающими приступ кашля, и быстро вышел, жадно хватая воздух открытым ртом.
Ленечка захныкал.
– Дай мама поцелует, – рассеянно сказала Таечка. – Ты почему кашу не доел?