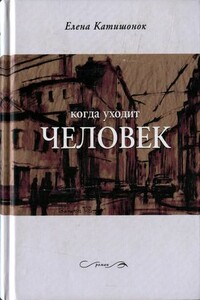Ну да: аптека. В аптеке всегда есть яд, но в доме не всегда есть аптека – или хотя бы аптечка… Она вспомнила, что яды держат в шкафу с литерой «А» – или в Германии по-другому?
Тех двоих так и похоронили вместе – никто не мог разнять сцепленных рук.
Женщины, копавшие могилы и длинные рвы, которые тоже стали могилами, молчали или говорили об одном и том же – немногословно, скупо; кто-то цинично. Говорили, что кладбища переполнены, оттого приходится хоронить в скверах, на пустырях, а то и во дворах; безымянные могилы, могилы для двоих, вот как эти, для матерей, все еще прижимавших к себе детей… Мертвых заворачивали в одеяла или простыни; о гробах и речи не было.
Улицы больше не пустовали: люди убирали камни, мусор, расчищали тротуары. На стенах домов появились листовки на обоих языках, немецком и русском; люди останавливались, читали. Среди стоявших Лиза увидела Катерину.
…Вот с этой встречи она и продолжила повествование, сдвинув во времени свое появление с лопатой в руках, на чужой улице чужого города, несколько вперед, на неделю после того как был взят Берлин; но какое значение это имеет теперь, через восемнадцать лет после войны?
…Повествование стало более компактным, что понятно в свете великой Победы: страх, подневольный труд, оторванность от родного города – все это вот-вот останется позади. Листовка предписывала как можно скорее явиться на «пункт для советских граждан».
Обе, Катерина и Лиза, были в смятении. Как-то очень строго звучало это «как можно скорее». И не «прийти», не «собраться», а «явиться», как по приказу. Почему «скорее»? И что будет, если не явиться вот так, сразу – не разрешат уехать? Не хватит места в поезде?
Катерина по-прежнему решительно не хотела возвращаться, да только кто ж ее спрашивал? Один из пунктов листовки деловито сообщал, что своевременная явка и регистрация «…относится ко всем советским гражданам, которые были интернированы или вывезены Германией со времени с 22 июня 1941 г.».
«Не пойду, – замотала головой Катерина, – ну их к лешему». И рассказала Лизе, как пряталась от бомбежки в каком-то подвале, где познакомилась с молодым бельгийцем, тоже работавшим у бауэра, как они. Антуан собирается ехать домой – денег на маленькую ферму хватит, а там будет видно; подруга одернула новую жакетку.
Можно было бы описать встречу с веселым кареглазым Антуаном, то, как он предложил познакомить Лизу с его приятелем – в те дни фиктивные браки оформлялись так же легко, как и подлинные; но так ли уж интересно Вере и Ларисе, двум советским женщинам, узнать про авантюрное Катино счастье? Едва ли; и потому история осталась не рассказанной, хотя сама Лиза успела порадоваться за Катерину, потому что ее брак с веселым бельгийцем оказался вовсе не фиктивным. И с его приятелями она познакомилась, благодаря чему узнала любопытную и спасительную подробность, которая помогла решить ее собственную жизнь.
Лизе не было необходимости выходить замуж за иностранца по той единственной причине, что гражданкой СССР она не была никогда, живя в одной из тех стран, которые «были оккупированы Советским Союзом против воли их жителей», как было написано в другой листовке, на английском языке. Следовательно, Лизе не нужно было являться «как можно скорее» на советский пункт: у нее сохранилась метрика, выписанная по месту рождения, в столице независимой республики, и теперь ее обладательница могла сама распорядиться своей судьбой. Руководило Лизой страстное желание больше никогда не видеть красноармейскую форму, никогда, но желание это не сбылось. Да, война кончилась, но солдаты-победители остались, и всякий раз, встречая советский военный патруль, Лиза холодела от страха. Домой возвращаться было нельзя: ее город освободили от немцев солдаты в этой форме – и значит, они делали там то же, что и здесь.
Она увидела ту же форму спустя восемнадцать лет – на таможеннике, когда протянула ему свой паспорт и визу, и в животе ожил страх: не отдаст, ведь она за границей, впервые подумав о Германии как о доме. Молоденький паренек посмотрел внимательно, кивнул и повернулся к следующему туристу.