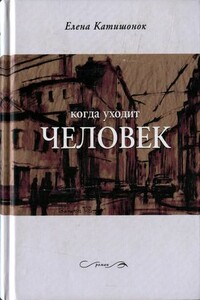Ровная и однообразная атмосфера дома изменилась летом сорок второго. Стало известно, что сын, Фридхельм Штюбе, ранен и направлен в госпиталь. Лиза не помнила, как эти сведения просочились на кухню, потому что до сих пор о сыне упоминала только Яся, предсказывая, что Лиза непременно станет ему подстилкой, если хозяин не воспользовался; к этому времени Лизин страх притупился, а потом и вовсе сошел на нет.
Лейтенант Штюбе прибыл из госпиталя без правой руки – ее отняли полностью, и так же полностью он выбыл из действующей армии. Высокий – в мать, сейчас он как-то карикатурно стал похож на нее, с одним плечом выше другого; на этом сходство кончалось, ибо Фридхельм был сухопарым шатеном, как отец. Несмотря на увечье, держался он бодро, однако тело не привыкло к асимметрии, и можно было видеть иногда, как молодой Штюбе, молодцевато взлетая по лестнице, вдруг взмахивал единственной рукой, не в силах удержать баланс и не имея второй, чтобы ухватиться за перила. Сын своих родителей, Фридхельм Штюбе был истинным немцем, а потому твердо вознамерился приобрести протез и разработать его. Дома сын не задержался – уехал за искусственной рукой.
Так же как все происходящее в доме, становились известны внешние события – частью это были слухи, частью вымысел, когда люди выдают желаемое за действительное, с тонкими ручейками информации, которые нет-нет да и просачивались, растекаясь уже с новыми подробностями. После Сталинграда и Курска стало ясно: немцы отступают, и похоже, что окончательно. «Наши придут. Теперь скоро!» – по Ясиному лицу разлилось злорадство.
«Наши»? Нет – ваши.
Лиза никогда не сможет забыть, как пришли «наши» и увели отца, как мать бросилась следом, и один из «наших» толкнул ее прикладом к отцу. О том, что стало с сестрой, ставшей женой одного из «наших», она боялась думать.
«Наши» означало не просто «чужие» – враги.
С перспективой прихода «наших» Яся стала разговорчивей и даже помягчела к Лизе. «Отольются наши слезы, отольются», – повторяла она, хотя Лиза ни разу не видела ее плачущей.
Кончался сорок третий год, но в доме Штюбе не ощущалось перемен. Казалось, так будет всегда, да и раньше, до войны, жизнь текла, должно быть, по тому же руслу, только вместо «остовцев» в хозяйстве были заняты наемные рабочие. День по-прежнему начинался в пять утра, никто не воровал и делал что прикажут, только вдруг исчезла Яся. Вместо нее стала приходить «Катрина», как представила ее хозяйка. «Катрина» оказалась Катей, коровницей. Она рассказала, что Яся «слюбилась» с одним из работников и ее, беременную, отправили в особый лагерь, где «таких держат», объяснила Катя, словно речь шла о заразных больных.
Работала Катя быстро и ловко: «Я скотину люблю». Всю недолгую прежнюю жизнь прожила в деревне, где любовь к скотине чуть ее не сгубила, когда раскулачивали родителей и Катерина, тогда совсем девчонка, не хотела отпускать веревку; все бы ничего, но веревка была обвязана вокруг шеи коровы. «От такие мы кулаки были, – горько говорила она, – при одной корове-то. Она когда телкой была, мы зимой ее в хату брали». По сравнению с родителями Кате повезло по малолетству: стала колхозной дояркой, а потом началась война. «Коровы хоть и немецкие, – гордилась Катя, – а меня ой как хорошо понимают! И голос, и руки. Чувствуют, что я скотину люблю».
Благодаря Катерине Лиза намного быстрее управлялась с кухонной уборкой и была допущена «наверх», в комнаты. Фрау Штюбе, как и прежде, могла появиться в любой момент и в любом месте.
Могла, да, – но делала это все реже и не так придирчиво, как прежде. У нее прибавилось хлопот: мужа призвали на фронт. Как истинная немка она должна была бы приветствовать этот час, но Ханнелоре не находила в себе душевных сил на подобный энтузиазм. Сам герр Штюбе, терзаемый бездумной расточительностью (нельзя на управляющего оставлять завод, нельзя!), пытался кому-то объяснить свою позицию, но не преуспел – и отбыл.
Зато приехал сын. Рука выглядела совсем как настоящая, только перчатка, никогда не снимаемая, нарушала впечатление. Фрау Штюбе привыкла гордиться, что сын отдал правую руку за великую Германию, это так символично! Вместе с тем она горько и трезво осознавала, что Фридхельм потерял руку, сражаясь за город с тревожным названием Charkow (Ханнелоре в нем слышала «horch!»). И что в итоге? Русские отбили свой Charkow, но кто вернет руку ее сыну? Другие женщины потеряли сыновей и мужей, твердила она себе, однако горечь не проходила. Если ты натер мозоль, то аргумент, что кто-то другой сломал ногу, не избавляет от мучений.