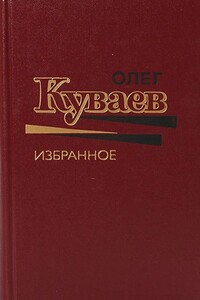В итоге Воронков в траншее нос к носу столкнулся с Семеном Прокоповичем: тот возвратился из второго эшелона на передок. Лейтенант узнал его безошибочно: винтовка с оптическим прицелом, скуластый, раскосый, с прищуром, в смоляных волосах седые нити. Он остановил снайпера, спросил:
— Вы Данилов?
Якут кивнул, затянулся из короткой обкуренной трубки, дыма почти не выпустил, вдохнул в себя. Воронков еще спросил:
— В засаду?
Данилов опять молча кивнул.
— Без напарника?
Хлюпнула трубка, сиплый голос курильщика:
— Не подобрал, однако.
— Почему?
— Не из кого, народу мало… Понимаешь?
«Чего ж не понять? — подумал Воронков. — Задаю дурацкие вопросы… И он по справедливости тыкает меня…» Как бы по инерции задал новый вопрос:
— Сколько же на вашем счету?
— Двадцать три, однако. — Данилов сощурился, глаза превратились в щелки. — Считай!
На прикладе было двадцать три зарубки, сделанные ножом. Воронков уважительно покачал головой. И вдруг попросил:
— Возьмите меня в напарники, Семен Прокопович!
— Имя-отчество знаешь? А начальство разрешит?
— Разрешит… временно. Пока не подберете себе напарника! А?
— Подумаю… Надо познакомиться, однако…
Погода распорядилась так, что Данилов задержался в его роте, и они пообщались в землянке у Воронкова. С горизонта поволокло грязно-черные рваные тучи; они поглотили солнце и синеву, низко плыли над землей, набухали дождем и ветром. Ударил ливень, а потом и град. Он забарабанил по накату, по окну, в дверь — будто осколки. Недаром же говорят: град осколков. Кстати, пять его ранений — осколочные: снаряды и мины, ни одного пулевого. Не унывай, лейтенант Воронков, все еще впереди. И осколок авиабомбы впереди? Ну, если словишь такой осколок — каюк, срежет к чертовой бабушке, наповал, насмерть. Да оно и пулеметная либо автоматная очередь — не сахар. И даже единственная пулька может укокошить. Смотря куда попадет.
Когда Воронков выглянул за дверь, округа была усыпана градинами, бело-серый льдистый слой погрёб под собой слой тополиного пуха. Сразу охололало, а из черных туч продолжало пулять белым градом с воробьиное, с куриное яйцо. Не осколок, но влепит — закукарекаешь! Градопад вскоре прекратился, однако ливень хлестал и хлестал.
В этакую непогодь, при хреновой, то бишь нулевой, видимости снайперу на переднем крае делать нечего, и Данилов сидел на нарах, пил дымящийся чай и рассматривал Воронкова. А когда не пил чая, то пыхтел трубкой с коротеньким мундштуком и опять же разглядывал Воронкова. Лейтенант про себя усмехнулся: и каков же я, Семен Прокопович? — но затем забеспокоился. И правильно: потому как при такой погоде немецкая разведка может объявиться и днем.
Налив Данилову полную кружку крепчайшего чаю, Воронков извинился: «Я отлучусь, Семен Прокопович. А вы отдыхайте», — и шагнул в ливень. Старшина плащ-палатку ему покуда не выдал, и Воронков прихватил чью-то, сохнувшую на гвозде, вбитом в неошкуренный стояк. И снова же правильно: дождяга нахлестывал как плетьми — струи тугие, секущие, без плащ-палатки вмиг промокнешь.
Но и она не спасла: ввалившись часик спустя в свою землянку и сбросив заляпанную глиной, промокшую плащ-палатку, Воронков обнаружил: так ведь и гимнастерка промокла, да и белье нижнее вроде влажное. Насквозь прохватило!
Теперь Данилов поухаживал за ним, налил чайку. Помедлив, спросил:
— Где был, лейтенант?
— Оборону проверял, — ответил Воронков и, обжигаясь, отхлебнул из кружки.
— Молодец, однако… Беру в напарники, поохотимся… Начальство отпускает?
— А это мы сейчас выясним, — сказал Воронков и крутанул ручку полевого телефона. На том конце провода откликнулся телефонист, затем трубку взял капитан Колотилин. Воронков извинился, изложил свою просьбу и выслушал, что ответил комбат. А комбат ответил так:
— Руки чешутся? Разрешаю, валяй. Но под пулю не подставляйся. И про обязанности ротного не забывай…
— Спасибо, товарищ капитан… Не забуду…
Светясь, Воронков повернулся к Данилову. Якут пыхнул трубочкой:
— Слыхал, однако… Если дождь кончится, уйдем в ночь…
— В ночь?
— Да. Чтобы рассвет встретить там, откуда охотиться будем. Понимаешь?
— Понимаю, Семен Прокопович!