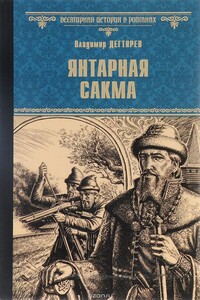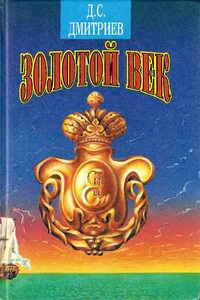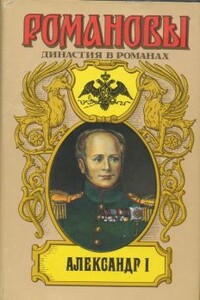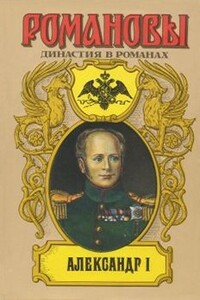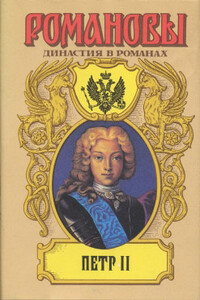— Ты предвосхитил мои мысли, — говорил ему Вольский. — Я и сам подумывал о том, чтобы оставить военную службу, жениться на Варе и поселиться в деревне. Наши имения по соседству… то-то зажили бы мы с тобой в удовольствие… Я прежде стремился на службу, на войну, но война же меня и излечила от иллюзий. Не потому, чтобы она нагнала на меня страх, ты меня знаешь и знаешь, что мне смерть не страшна, когда я борюсь за правду, за право, но сама она ничто иное как бесправие, основанное на праве сильного, а что такое это право — ты сам хорошо знаешь. Нет, война зло, а злу я служить не хочу. Я охотно понесу свою голову под пули, когда отечеству будет грозить опасность, но нести ее для химерической славы — нет. По-моему, воинская слава — для славы, — страшное преступление перед нравственностью. И я теперь не могу простить себе того, что в армию меня толкала не мысль об освобождении славян, а мысль об отличиях, о славе. А между тем, сколько дела у себя дома… Нет, в армию я больше не вернусь. Там и без меня офицеров немало, а помещиков, которые не смотрели бы на крестьян как на рабов, которые заботились бы о них, как о детях, нет, или очень мало..» Поселюсь в деревне и постараюсь быть для крестьян тем, чем должен быть дворянин… Да что же ты молчишь, Аркадий? — прервал Вольский свои мечты, — ты, право, не в духе.
— Устал, голубчик. Шутка ли, в мороз и вьюгу проскакать без передышки тысячи верст.
Ребок говорил неправду. Он не устал; в Москву он рвался не менее Вольского, не менее его предвкушал радость свидания с невестой, с родными, точно так же, как и Вольский, строил он планы своей будущей жизни, но его пугали готовящиеся в Москве события. Из писем невесты он знал, что княжна Прозоровская сосватана за Суворова, но Вольскому до сих пор об этом он ничего не говорил. Сперва молодой офицер был болен, всяких волнений следовало избегать, затем он поправился, но все же был слаб, и Ребок каждый день откладывал сообщение печальных известий. Решил, наконец, подготовить Вольского в дороге, но вот теперь они подъезжают уже к Москве, а он не знает, как приступить к делу…
Пробовал начать несколько раз и в конце концов решил оставить до Москвы.
— А что, Евгений, согласилась ли бы княжна Варвара уехать в деревню? — спросил он. — Ты смотришь на это дело так, а она, быть может, иначе. Не забывай, что ты и она — две противоположности: у вас и вкусы и характеры разные…
— Тем лучше, жизнь не будет однообразна. Нет ничего хуже, если жена представляет собою точную копию мужа или муж — копию жены. Такое супружество сейчас же наскучит У нас же не то: подчас заспорим, быть может, и поссоримся, зато примирение будет сладко.
— У вас, ты говоришь, у вас… Значит, ты объяснился с княжной.
Вольский вздохнул.
— В том-то и дело, что нет. Я только мечтал… А что, если мечты мечтами и останутся… Противный ты, Аркадий, своей хандрой и на меня нагнал раздумье… А что, если в самом деле я ошибаюсь и Варя меня не любит?.. Ты как думаешь, Аркадий?
— Не знаю, голубчик.
— Ах, как бы я хотел быть на твоем месте!
Ребок рассмеялся.
— То есть как это: женихом Ани?
— Да нет, не то… А вот и Москва-матушка!
Замелькали занесенные снегом домишки, кибитка въезжала в пригород. Путники сняли шапки и набожно перекрестились. Лошади, почуяв близость отдыха, ускорили бег, и тройка неслась по ухабам и выбоинам, то и дело заставляя подпрыгивать седоков.
— Ну теперь приходится молчать, — сказал Вольский, — а то, чего доброго, язык откусишь.
Тройка все мчится и мчится, но как ни быстро мчат молодых людей почтовые лошади, мысли их далеко обгоняют конский бег и рисуют им разные картины.
Путники давно уже миновали предместье, и московские дома один за другим мелькают перед кибиткой. Вольский у каждой церкви снимает шапку и крестится. Но вот у одной из церквей толпится народ, больше салопницы и простолюдины. Храм блещет огнями.
— Стой! — крикнул Вольский ямщику. — Аркадий, зайдем в церковь помолимся. Да, никак, это свадьба… Счастливая примета.
У Ребока при слове свадьба упало сердце. Он был не согласен с кузеном насчет приметы, но не спорил и молча вышел из кибитки.