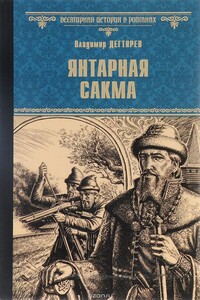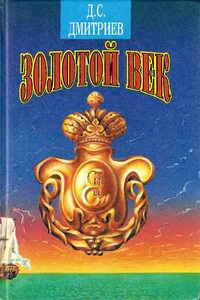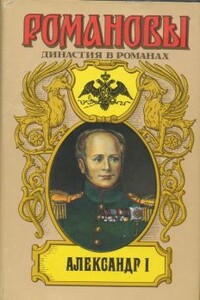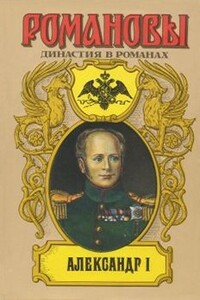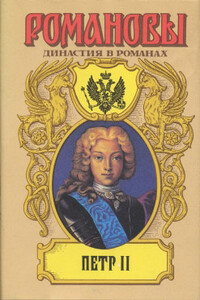Граф с благоговением надел образок на шею.
— Он мне вдвойне дорог: и как святыня, и как полученный от вас. Если бы вы знали, дорогая Нина Николаевна, что творится у меня теперь и в голове, и в сердце. По временам мне кажется, что я схожу с ума: в Варшаве у меня долг перед отечеством, а здесь — моя жизнь. Да, если бы действительно был долг, с этим можно было бы мириться, но дело в том, что долг не настоящий, а искусственный, созданный безумными людьми, и я против воли, вопреки разуму должен признать этот долг только потому, чтобы имя графов Олинских не запятнали именем изменников.
— Я видела, Казимир, причину вашего участия в инсурекции не в опасении, что скажет о вас толпа, а в любви к вашей родине, — сказала как бы с грустью Нина Николаевна.
— Нет, дорогая моя. Лгать не хочу. Родину свою я люблю, и потому-то я против инсурекции. Я смотрел на дело хладнокровнее других и потому-то был против революции; силы наши слишком неравны: мы, дезорганизованные, затеяли борьбу с тремя сильными и могущественными государствами. Исход такой борьбы нетрудно было предвидеть, не видели его лишь экзальтированные люди, да не хотели видеть люди бесчестные, вроде Колонтая, желавшие ловить рыбу в мутной воде. Тем не менее я должен был подчиниться общему течению. Будь я простой шляхтич, я мог бы оставаться в стороне простым зрителем, но граф Олинский не мог быть безучастным в то время, когда все высшее дворянство несло на алтарь отечества и жизнь, и достояние. Я сознаю всю бесцельность этой жертвы и все-таки приношу ее, — закончил граф со вздохом.
— Что даст эта неравная борьба? Прольются потоки крови, — продолжал он, — останутся тысячи вдов и сирот, страна будет разорена, и в конце концов положение Польши, и теперь печальное, ухудшится еще больше.
Появление генеральши переменило тему разговора. Вскоре пришел и фон Франкенштейн и Суворов. Граф Казимир отвел кузена в сторону.
— Дорогой Александр, на твое попечение я оставляю Нину Николаевну, будь ей братом.
Александр молча пожал ему руку.
На другой день рано утром он уехал в сопровождении Яна в Раховицы. Степан остался в лагере при дамах, он успел уже помириться со своею крестной.
Сражение под Брестом, уничтожив почти третью часть польских вооруженных сил, подорвало революцию в корне. Настроение варшавян изменилось, и недавнее ликование уступило место полному унынию. Костюшко немедленно поскакал в Гродно, чтобы стянуть свои войска к Варшаве. Он был так подавлен событиями, что ни с кем не говорил, и генералы, имевшие к нему дело, три дня не могли добиться, чтобы он принял их.
Не менее сильное впечатление произвел разгром корпуса Сераковского и в Петербурге, хотя впечатление это было несколько иного рода. Победив Сераковского, Суворов победил и многих из своих недоброжелателей и завистников, по крайней мере внешне. Его восхваляли, его превозносили, рассказывали про него анекдоты, цитировали его письма. Сделалось известным его письмо к Платону Зубову, в котором, поздравляя его «со здешними победами», он писал: «Рекомендую в вашу милость моих братцев и деток, оруженосцев великой Екатерины, только в них прославившейся».
Екатерина пожаловала ему дорогой алмазный бант к шляпе и три пушки из числа отбитых им у поляков, а племянника его, полковника князя Горчакова, произвела и бригадиры.
Румянцев вдвойне был рад его успеху, ибо выбрал его и послал на свой страх. Теперь этот выбор оправдался таким блистательным образом. Фельдмаршал неоднократно благодарил Суворова в самых любезных выражениях, отнеся причину успехов к высшим дарованиям предводителя. О брестской победе он выразился: «Она важна столько по существу, сколько редка в своем роде и подтверждает истину, что большое искусство и горячая ревность предводителя и подражания достойный пример в подчиненных преодолевают все в воображении возможные труды и упорности».
Но брестский успех завершил победоносное движение Суворова на долгое время. Прежде всего надо было спустить с рук обузу — трофеи, пленных и польских дезертиров, которых накопилось около пятисот человек. Суворов рассортировал пленных и беглых. Не возбуждавших подозрений распустил по домам, а остальных вместе с отбитою артиллериею отправил под конвоем в Киев. Надо было выделить и для других целей несколько отрядов, и под ружьем осталось не более 6000 человек. С такими силами нечего было и думать о продолжении наступательных действий, и Суворов остался в Бресте; разбили лагерь, вырыли землянки, и таким образом возник правильный городок с шатрами и бараками маркитантов и лавчонками евреев. Во всем необходимом было изобилие и дешевизна: фунт мяса продавался по копейке, курица по пять копеек, а ведро водки по пятьдесят копеек.