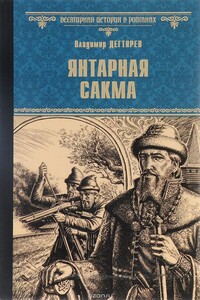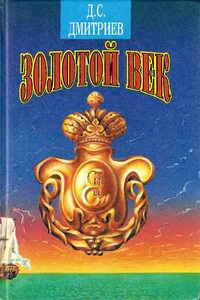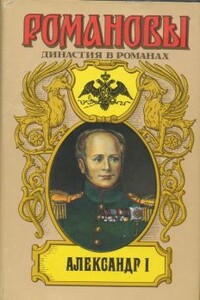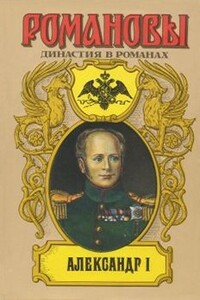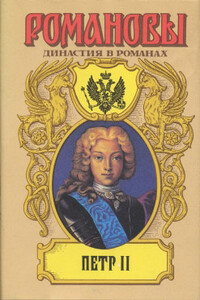Темною ночью расположился суворовский отряд бивуаком у д. Трещин. До Бреста, у которого Сераковский занял довольно сильную позицию, оставалось верст шесть, не более. Отряд был утомлен, и начальник его поместил солдат под прикрытием лесистого холма и приказал варить еду.
Едва только отряд расположился на отдых, как казаки из авангарда привели к Суворову встреченного в лесу еврея.
Несчастный еврей дрожал от страха: казаки, заподозрив в нем шпиона, сначала поступили с ним крутенько, но, узнав, что это посланный от еврейского населения Бреста к начальнику отряда, привели его к Суворову.
Большого труда стоило успокоить бедного еврея и заставить говорить связно. Но отличительная черта Суворова была располагать к себе всех, с кем он имел дело и кого желал расположить к себе. Рымникский граф заговорил с евреем по-немецки, умышленно придавая словам еврейский акцент. Еврей обрадовался и упал ему в ноги.
— Будьте милостивы, ваше сиятельство, мы люди маленькие, бедные еврейчики, просим вашей защиты. Меня послали к вам мои земляки… если что нужно, хлеб, мясо, — мы вам все доставим. Если нужно, я проведу вас к Бресту самыми лучшими дорогами.
— Ладно, а бунтовщики где? — спросил Суворов.
— Они у самого Бреста, только не в городе… за городом разбили палатки и отдыхают, потому что на днях идут в Варшаву.
— Кто начальствует над ними?
— Пан Сераковский.
— А много поляков?
— Тысяч десять-одиннадцать будет.
— Неужели Сераковский думает уйти в Варшаву без боя? Еще недавно он хотел атаковать нас, — удивился Суворов, обращаясь к Потемкину.
Еврей понял сказанную по-русски фразу и ответил русским же ломаным языком.
— Поляки так устали, что о бое не думают, они торопятся теперь в Варшаву, так как узнали, что прусский король осаждает ее. Пан Сераковский уже и повозки свои туда отправил, не сегодня-завтра и сам туда уйдет.
— Нужно торопиться, — заметил Суворов Потемкину, и, отпустив еврея и велев накормить его, он пригласил к себе генералов.
— Господа, Сераковский хочет уклониться от боя, — обратился он к ним. У некоторых из генералов мелькнула презрительная улыбка. Суворов заметил это.
— За всю свою жизнь я ни разу не уклонялся от боя, — продолжал он, — быть может потому, что мне почти никогда не приходилось быть атакованным, я сам всегда атаковал, но будь я в положении Сераковского, быть может, и я поступил бы так же, как и он. Во всяком случае он поступает умно, и потому мы должны ему помешать. Поляки не трусы. Если мы навяжем им бой — они примут. Следовательно, от нас теперь требуется: заставить их драться и совершенно их уничтожить.
Генералы выразили полную уверенность в уничтожении корпуса Сераковского.
— Ну, а теперь, следовательно, мы должны помешать их отступлению, — закончил Суворов и приказал, изменив направление, идти в обход, откуда Сераковский не ждал появления русских.
Солдаты успели тем временем поужинать и расположились на отдых. Прилег и Суворов на земле, укутавшись в свой плащ, но уснуть ему не удалось. Вскоре из аванпостной цепи ему донесли, что прибыл из Люблина офицер с письмом от австрийского генерала.
Сердце у старика дрогнуло от какого-то смутного предчувствия.
— Скорее его сюда, — приказал он, а через десять минут держал уже в своих объятиях ротмистра фон Франкенштейна.
— Дорогой Александр, как бы я рад был тебя видеть при других обстоятельствах, на другом театре войны, — говорил Суворов, усаживая фон Франкенштейна у костра на барабан.
— А я рад всегда и во всех обстоятельствах видеть вас, батюшка, — ответил молодой человек. — Я вас понимаю, вы щадили мое чувство национального самолюбия, но…
Молодой офицер несколько замялся.
— Попал я на театр войны нечаянно, — продолжал он, — мой полк не входил в состав действующих войск и был назначен неожиданно. Тяжело мне было отправляться в поход. Вы знаете, не опасность меня страшила, ее я не боюсь, но мысль проливать кровь моих соотечественников приводила меня в ужас. Но время и обстоятельства делают многое. Во все время пути я старался выяснить свое отношение к Польше, и, сколько я ни убеждал себя в том, что я поляк, что Польша мое отечество, по отношению к которому у меня существуют известные обязанности, я не мог не прийти к тому заключению, что к Австрии у меня обязанностей больше. Положим, Польша моя родина, но родина в смысле лишь места моего рождения. Сколько я ни старался убедить себя в том, что у меня существуют с нею связи духовные, — я не мог. Что мне дала моя родина? Она сделала мою мать несчастной, выбросила меня с нею за борт, как двух нищих, и, не найдись добрые люди, я, граф Бронский, был бы теперь человеком без роду и племени… Нет, мое отечество, в том смысле, как его понимают люди, проливающие кровь за родину, — Австрия. Ей я всем обязан и ей должен служить.