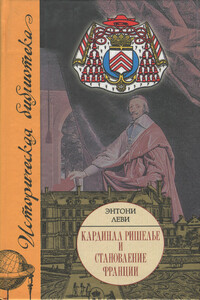— Святая римская церковь разрешила тебе все ресcatus[4]. За твоё спасение, Владислав, отвечаю я, твой исповедник…
Наступило молчание. Затравленный старик не успокаивался. Он думал о том, что слова архиепископа только слова, что никто не может отвечать за чужие поступки, за честь мужа… Ах, какая тут честь, после того как дважды менял веру?.. Ради чего же он, Ягайло, продал себя в вавилонский плен? За сокровища, за женскую красу?.. Нет! Польша была нищей по сравнению с Литвой и Русью и даже татарами, и далеко было облезлым, слабосильным, лживым и распущенным, ах, до чего распущенным шляхтянкам до кареглазых, полногрудых, сильных и пригожих русинок! Но не это, не это тревожило совесть Ягайла. Злой дух честолюбия вывел его на высокую гору и показал своё царство. Это честолюбие! Блеск, корона, скипетр, отряды закованных в броню витязей, преклоняющихся перед его величеством королём… западные города с высокими башнями, монастырями, аркадами… Это не литовские вековые девственные пущи, не жмудские болота, не степь… За эти болота, леса, степи продал себя Ягайло православному Якову, а за блеск короны, за мишуру западного величия он продал Якова католическому Владиславу.
И вдруг свежая, словно только что родившаяся в его теле струя крови заиграла в жилах старика. Быстрым движением он сбросил с плеч кожух и встал. На лице канцлера тоже мелькнуло удовольствие, он решил, что ему всё же удалось освободить короля от душевных сомнений и мук.
— Свидригайло не без причины запер нас здесь, — заговорил король, расхаживая мелкими шажками самовлюблённого человека. — Он знает, что это комната Сигизмунда, а может, и Бируты. Он хочет мне напомнить, что и меня может постичь судьба Кейстута. Но погоди, братец! Ты не знаешь ещё Ягайла!
— Не грозите, ваше королевское величество! — прошептал Збигнев. — Ведь там, в комнате, тоже слышно каждое слово!
Ягайло понизил голос и продолжал:
— Я хотел осуществить Кревско-Городольское соглашение и поддеть, как окуней на удочку, и Литву и Русь, убей их бог, но пришлось уступить, подобно тому как пришлось после Грюнвальда отдать Витовту Подолию и признать его независимость. Но теперь не времена Грюнвальда, а после Виленского договора все земли Витовта должны вернуться к Польше. Я признал Свидригайла князем.
— Заставили! — вставил своё слово архиепископ.
— Однако Подолия и Волынь, или пусть только Подолия, остаются за нами!
— Само собой, — согласился Олесницкий, — но в том случае, если подольская шляхта уже заняла замки. Свидригайло, однако, запер нас тут, и мы должны усыпить его недоверие, чтобы выбраться из беды.
Ягайло остановился среди комнаты.
— Вот видите, святой отец, я правильно советовал, когда хотел, после избрания Свидригайла, тотчас же вернуться в Польшу. Теперь мы были бы дома, а Свидригайло…
— Собрал бы войско раньше нас, и война уже бушевала бы, — закончил канцлер.
— Как будто она сейчас не бушует!
— Разумеется, на многое мы закрываем глаза, вот, скажем, хотя бы на бесконечный спор с немецкими рыцарями, на раздоры с Валахией, неприятности с татарами, однако перед всем светом у нас с ними вечный мир. Канцлер, конечно, живёт неправдой, а король Ягайло хладнокровно отправляет на тот свет своих свояков, но ключи от рая в руках этого канцлера, и он откроет врата своему королю.
Ягайло покраснел.
— Не понимаю тебя, канцлер! — сказал он резко. — Король я или не король? Остаюсь я повелителем, или мне просто снять с головы корону самому, чтобы её не стаскивали у меня ежедневно другие. Сидя на литовском столе, я властвовал, а теперь у меня одни неприятности. Раньше я говорил: «быть по сему!» — и так было, а теперь лишь лукавство, ложь да интриги. Возможно, вы и пустите меня в царство небесное, но войду я в него, чувствуя своё внутреннее ничтожество. О, покойный Витовт отлично выразился, когда хотел получить корону из рук римского цесаря: «Кто с вами, шляхтичами, связался, тот погиб, загубил душу, потерял совесть, а взамен получил лишь вечный позор!» Вы забываете, господа секаторы, что король тоже человек…
— Salas ecclesias suprema lex esto!