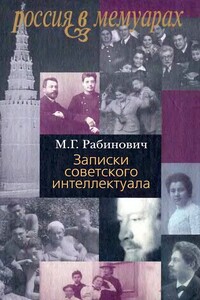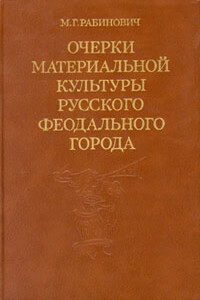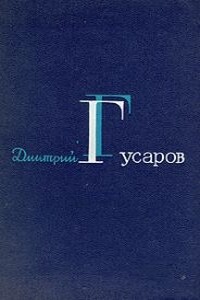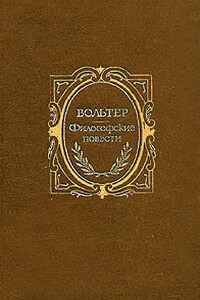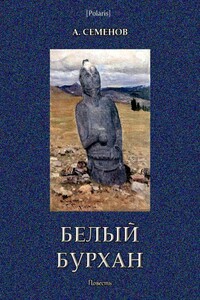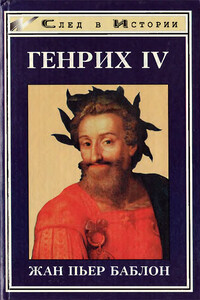Погожей ранней осенью 1808 года крестьянка одной из подгородных деревень Ларионова отправилась куда-то с лукошком. Столь обыденный поступок не привлек бы ничьего внимания, если бы с Ларионовой не произошло в этот день нечто из ряда вон выходящее. «Находясь в кустарнике для щипания орехов, – как гласит составленный вскоре после этого документ, – Ларионова усмотрела близ орехового куста в кочке что-то светящееся». В пробивавшихся через листву солнечных лучах ярко горело золото. Когда крестьянка подошла поближе, она увидела, что это золотая бляха на заржавленном шишаке, каких не встретишь у теперешних солдат. Под шишаком лежала груда заржавленных железных колец, которые, однако, были прочно соединены друг с другом – кольчуга. Забыв об орехах, женщина с трудом подняла обе вещи и, придя в деревню, сдала свою пудовую ношу старосте. Рассмотрев на бляхах изображения каких-то святых и надписи, староста переправил находку местному Церковному начальству – архиерею. А тот хоть и не сумел определить толком, что это за вещи, но понял все же, что они древние и могут быть интересны для науки, и послал самому царю Александру I в Петербург.
В Петербурге древними вещами, присланными из Юрьева-Польского, занялся Алексей Николаевич Оленин, человек во многом замечательный. В молодые годы он сам рисовал и даже иллюстрировал сочинения Державина. Но со временем его все больше привлекало изучение различных древностей, преимущественно древних изображений и надписей. Он стал историком и археологом, в дальнейшем был директором петербургской Публичной библиотеки (ныне библиотека им. Салтыкова-Щедрина) и президентом Академии художеств.

Вещи были, насколько возможно, очищены от ржавчины, и перед глазами ученого предстал древний, богато украшенный воинский шлем, или шелом, как его называли в далеком прошлом. От этого древнерусского слова в нашем современном языке осталось образное выражение «ошеломить» (буквально – «ударить по шелому»), «оглушить». Шелом был скован из железа, плавно вытянут кверху (с таким расчетом, чтобы оружие врага, ударяя по нему, скользило) и заканчивался острым «шишом», к которому когда-то прикреплялся еще султан из перьев. Для защиты лица шлем имел особый наносник – железный посеребренный. Когда-то весь шлем был позолочен. Его нижний край украшала серебряная пластина. На чеканном ее орнаменте видны были фантастические хищники – грифоны, барсы, птицы, – листья, цветы лилии. Наверху вокруг шиша располагались серебряные позолоченные образки, на которых были вычеканены изображения Христа и «святых». На «челе» – надо лбом – помещалась большая пластина (она тоже оказалась серебряной позолоченной) с чеканной фигурой «святого» архистратига («начальника небесного воинства») Михаила. Голова архистратига окружена сиянием, за спиной – огромные крылья. Вокруг фигуры буквы древнего славянского письма образовали надпись: «Велик архистратиже господен Михаиле помози рабу своему Феодору». Это заклинание должно было принести удачу владельцу роскошного шлема, какому-то знатному воину по имени Федор.

Ведь рядовой боец не мог иметь такого драгоценного шлема. Золотой шлем носил обычно князь – военачальник. Недаром автор замечательного литературного произведения XII века «Слово о полку Игореве», описывая битву русских с половцами, в которой прославился трубчевский и курский князь Всеволод, по прозвищу Храбрый (буй) Тур, говорил: «Камо (куда) Тур поскочаше, златым шеломом своим посвечивая, тамо лежат поганые головы половецкие». Певец следил в битве за своим князем, находя его повсюду по светящемуся золотому шелому.
Но какому князю Федору мог принадлежать шлем, найденный у Юрьева-Польского? Начертания букв надписей были такими, какие встречались во второй половине XII или начале ХШ века. Перебирая имена русских князей того времени, Оленин остановился на Ярославе Всеволодиче, отце Александра Невского. В те отдаленные времена, когда христианская церковь господствовала на Руси еще сравнительно недавно (каких-нибудь двести с лишним лет), имена христианских святых, в честь которых церковь предписывала называть новорожденных, еще не стали обычными не только в народе, но даже среди бояр и князей. Князь обычно имел два имени: так сказать, официальное, данное при крещении, «крестное», имя в честь какого-либо святого, и народное, русское имя, которым его звали обычно (например, «Гавриил, зовомый Всеволод»). Оказывается, Ярослав Всеволодич имел «крестное» имя Федор. Но ведь он княжил в Переяславле, Великом Новгороде, Галиче, Рязани, Муроме, позднее – во Владимире, где и умер. Как же мог его шлем попасть на берег Колокши, к Юрьеву-Польскому?